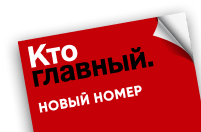
—Я знаю, что прежде чем заняться театром, вы окончили техникум в городе Тула.
—Я родился в Санкт-Петербурге, потом у меня появилась сестра, родителям надо было как-то выживать — отец окончил в Питере художественное училище — и они уехали в Тулу, к родителям отца. Там заканчивал школу, техникум, получил диплом электронщика. Там же понял, что гуманитарная отрасль мне ближе — последние два года учебы я провел в художественной самодеятельности. После техникума решил поступать в Тульский
политехнический институт, три раза проваливал математику, причем экзамены сдавал по ниспадающей — сначала из десяти заданий решил семь, потом — пять, затем — три. Потом уехал в столицу, поступил в Московский экстерный гуманитарный университет, на юридический факультет. Когда начался год специализации, я снова понял, что, наверное, юриспруденция — не мое, и начал поступать в разные творческие вузы. Поступил во ВГИК,
но там как-то актерский курс Джигарханяна развалился. Ну, а Университет культуры, актерско-режиссерский курс я уже окончил. У нас был нестандартный курс. Мы базировались в культурном центре МГУ, там у нас было свое помещение, и после того, как окончили университет, два года просуществовали как театр. В 2000 году познакомился с Михаилом Угаровым (сейчас руководитель Театра DOC. — «Главный»). И с этого момента начался другой этап: современная драматургия, читки, показы, через некоторое время открывшиеся Театр DOC и «Практика».
—Театр DOC и «Практика»— родные?
—Да, они рождались на моих глазах и c моим участием. И в Театре DOC, и в «Практике» были мои первые спектакли. В DOC совместно с Угаровым поставили «Войну молдаван за картонную коробку», потом была «Большая жрачка» с Вартановым.
— «Войну молдаван за картонную коробку» называли самым экстремальным спектаклем сезона-2003 (спектакль, действие которого происходило на задворках рынка, рассказывал о
жизни мигрантов. — «Главный»).
—Ну да, на тот момент это было новое явление. Не надо было большого труда, чтобы стать известным. Конкуренции не было в этой нише. Спектакль привлекал внимание самим фактом своего существования.
— Спектакль «Большая жрачка» — это вербатим. Какова была вообще техника сбора материала?
— Все было записано на диктофон. Мы с Вартановым проработали год в программе «Окна», запускали ее, делали пилотные выпуски. А после того, как она запустилась, еще год работали с диктофонами, тайно, никому ничего не сказав.
—То есть люди ничего не подозревали, от всей души с вами разговаривали?
—Абсолютно. Записывали репетиции с приглашенными подставными актерами, записывали, как проводилась работа с людьми, которые в зале сидели. Всю кухню записали. И собрания, когда редакторы и продюсеры ставили перед нами задачи, тоже записали.
—То есть, вы сами как авторы выдумывали ходы для «Окон». А потом еще фиксировали свое «отражение» в этих «Окнах».
—Да. В спектакле было несколько сцен, где мы расшифровали сами себя — как мы придумываем сюжет для программы «Окна». А потом сами играли себя придумывающих.
—Вы значитесь, как один из сорежиссеров сериала «Школа».
—Мы вместе делали кастинг, работали над концепцией, снимали вместе первые 15 серий. Но это было видение и ракурс ГайГерманики. И мы это понимали, подстраивались под нее. Может быть, ей не хватает техники, опыта, но у нее ухо очень хорошо настроено на правду существования, и оно чувствует фальшь, она добивается атмосферы, требует определенной манеры существования в кадре от актеров. У нее можно поучиться.
—Это ваш первый визит в Ростов, но заочно вы были знакомы благодаря спектаклю
«Сквоты».
—Да, заочно я был знаком с Ростовом благодаря разным художникам и музыкантам. О группе «Пекин Роу-Роу» узнал от Дмитрия Катханова (композитор, родившийся в Ростове. — «Главный»), когда мы с ним начинали работать над «Парикмахершей» (спектакль театра «Практика» по пьесе Сергея Медведева. — «Главный»). А работая режисером над «Сквотами», узнал, что значительная часть художников, в том числе и наиболее ярких, имеет ростовские корни. Складывается ощущение, что Ростов богат на творческие личности. «Сквоты» — это спектакль по пьесе бывшего ростовчанина Всеволода Лисовского. Он пришел в Театр DOC и предложил этот проект. Снял несколько интервью с Тер-Оганьяном, Сигутиным, Кошляковым, Петлюрой (первые три художника также родом из Ростова. — «Главный»). Очень пронзительный был материал. Это 90-е, когда рождался московский акционизм. Молодые люди с горящими глазами совершают революцию, все меняются, открываются дороги, начинают приезжать иностранцы, покупать работы. Они, молодые авангардные художники, наконец, становятся кому-то нужны, кто-то их узнает. Они взрывают постсоветское пространство, сносят мозги. Сегодня это совсем другие люди, и они говорят, что то время ушло, ушел тот драйв, многие зажирели. Это были очень щемящие интервью. Работа над «Сквотами» была для меня важным погружением. Честное отношение этих художников к жизни на меня как-то тоже инсталлировалось. Параллельно и в жизни у меня происходили переломы. Развелся с женой. Многое переосмыслил.
—А как вы узнали о театре «18+»? Кто вас пригласил сюда?
—Я слежу за интересными необычными проектами, которые появляются в стране, за проектами, от которых исходит некая энергия. Меня это интересует. К тому же я знаком с художественным руководителем театра Юрием Муравицким — вместе с ним мы принимали участие во многих новодрамовских проектах. О театре мне рассказывал и драматург Слава Дурненков, который работал в ростовском проекте «Тюремный театр». Так что о «18+» я знал еще до приглашения. А пригласили меня сюда Ольга Калашникова (главный режиссер
театра. — «Главный») и Юрий Муравицкий. Я согласился. К тому же пьесу «Жаба» написал Сергей Медведев, «Парикмахершу» которого я раньше ставил в «Практике». Так что, все одно к одному.
—Сначала вам предложили ставить пьесу Медведева «Секретный проект «Жуки-64» (фантастическая история о визите «Битлз» на день рождения Брежнева. — «Главный»), но вы остановились на «Жабе».
—Для «Жуков» на роли членов ЦК КПСС я бы пригласил каких-нибудь известных актеров, а на роли музыкантов, изображающих «Битлз», — студентов. И все действие происходило бы в каком-нибудь бункере. Но это проект для, например, фестиваля «Территория», а в контексте театра «18+» — с его помещением, этими конкретными актерами — должна сработать «Жаба». У нас, как мне кажется, подбирается неплохая актерская команда.
—Я обратил внимание, что вы часто говорите о контексте. Хотелось бы немного эту тему прояснить.
—Я всегда старался сотрудничать с театрами, для которых важен контекст. В театре DOC есть такой негласный устав, типа «зачем делать что-то, если это что-то можно делать в другом месте?» И это важно. В театре DOC ставятся такие вещи, за которые не возьмется ни один другой театр. В «Практике» тоже так. Для меня это важно. Почему я именно это должен делать именно в этом месте. Для меня театр — это не какой-то законсервированный, герметичный мир, это пространство, где преломляют и осмысливают современную проблематику. Это поле, где, если не решают, то хотя бы формулируют какие-то внутренние современные конфликты, угадывают тенденции. Поэтому контекст важен. Здесь в Ростове я хочу собрать максимально ростовскую команду. Очень хочется, чтобы «Жаба», которую я здесь ставлю, впитала в себя ростовский воздух, ростовские флюиды...
—Сейчас много говорят о вашей последней работе — спектакле «Кеды» по пьесе Любы Стрижак. Что для вас было важным в этой пьесе?
—Это наиболее адекватный материал на тему современных 26-летних. Кто-то говорит, что пьеса о хипстерах. Для меня нет понятия «хипстеры», мне кажется, этот термин уже уходит из сленга. Просто о современных 26-летних людях. Спектакль получился про московскую тусовку. Есть такой пласт тусующейся молодежи с высоким уровнем комфорта, который достигается легко, и для него не надо много денег. Вот эта история Любы Стрижак, мне
кажется, написана очень честно. Она почувствовала какие-то характерные детали, присущие этому поколению — они не желают работать, они — индивидуалисты. Эти люди, будучи достаточно умными, свободными, со вкусом, ничего не выдают в мир, боятся принимать решения, боятся формировать пространство вокруг себя. Убрав этих людей, жизнь не поменяется.
—Нынешние 26-летние отличаются от тех, кому 26 лет было в 89-м.
—Специфика в невероятном информационном потоке. И полное отсутствие каких-то ценностных ориентиров, не за что ухватиться. Если у человека нет внутреннего стержня, нет дела, в котором он заинтересован, сознание разваливается. Огромное количество музыки, видео, статей, мнений из Интернета, премьер, семинаров, занятий по йоге, тренингов.
—Вспомнил фразу, сказанную в другую эпоху Гребенщиковым, «из моря информации, в котором мы тонем, единственный выход — это саморазрушение». То есть, уже тогда людям казалось, что информации слишком много.
—Да, ее было много, но раньше, чтобы достать информацию, надо было пойти в библиотеку и подойти к полке, достать нужную книгу, может быть что-то переписать, запомнить. Другие механизмы памяти работали. А сейчас нужно всего пару кнопок нажать. А скоро можно будет из воздуха доставать информацию, просто по запросу. И вот интересно, что тогда будет. Долговременная память будет, наверное, отмирать, а вот быстрота мышления и быстрота обработки информации должна развиваться сильнее. В 90-е уровень комфорта был другой. Люди выживали. Сейчас вроде бороться не с чем. И за жизнь бороться не надо. А личность формируется, когда она что-то преодолевает, когда ты стоишь перед выбором. В общем, много противоречий. Мы пытались по возможности не вешать ярлыков, не давать ответов, а сформулировать вопросы.
—В «Жабе» как раз идет речь о приспособлении героя к ситуации.
—Ну, в общем, да. Можно сказать, что у пьесы хороший финал, а потом смотришь и думаешь «вот это люди называют счастьем». Люди к этим условиям адаптировались и могут получать свой кайф.
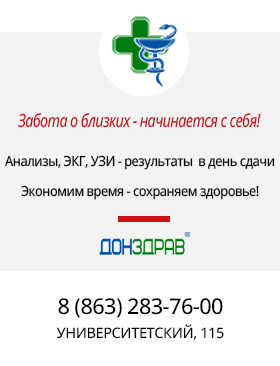

 Перейти в архив
Перейти в архив