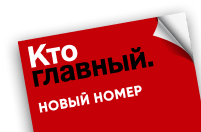
Виктор Шамиров. Ростовчанин, живет в Москве. Выпускник режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерской Марка Захарова. На сценах столичных театров поставил «Маскарад», «Сцены из Ростана», «Госпиталь “Мулен Руж“», Ladies’ night, «Трактирщица», «Бог», не на шутку разозлив критиков последними двумя. В декабре на экраны вышел первый фильм «зарвавшегося таланта» и «театрального безбожника» Шамирова — «Дикари» с Гошей Куценко, Маратом Башаровым, Владиславом Галкиным и лагерем «Лиманчик» в главных ролях.
Довольно пустынный Пушкинский бульвар на перекрестке с Халтуринским. На углу— трое.
Шамиров: — А текст на сверку присылаешь?
«Главный»: — Если нужно.
Ш: — Давай. Иногда люди очень странно редактируют мои слова. У меня даже проблемы с руководством театра были. Скверная ситуация.
«Г»: — А мне твои интервью не попадались.
Ш: — А вот потому что, зачем они нужны.
«Г»: — В общем, не волнуйся, у нас документальная манера изложения.
Ш: — Все, я очень рад этому. Смотри, у меня предложение такое: давай погуляем по Пушкинской, я ее очень люблю, это моя родная улица. Я жил на углу Пушкинской и Соколова всю жизнь. И моя родная улица начинается за Буденновским и идет до Кировского.
Внешне спокойный фотограф неожиданно вытягивает вперед руку с камерой, щелкая ею прямо в лицо говорящему. Говорящий пугается.
«Г»: — Не пугайся, он будет все время так делать.
Ш: — А, хорошо... Эти места для меня всегда были terra incognita, странная часть Пушкинской... Единственно, что знаю — здесь обком комсомола был, ты, наверное, забыла, что это такое. Меня там в комсомольцы принимали, и я не знал ответа на все эти вопросы...
«Г»: — Так их же учить надо по шпаргалкам.
Ш: — Ну мне дали, но я всегда был нелепый человек, я не мог запомнить ничего этого. У меня же в школе были все тройки.
«Г»: — Поздравляю, у меня тоже!

Оживленный Буденновский проспект.
Ш: — Давай тут свернем на Горького и пройдем мимо школы моей, мне будет приятно на нее посмотреть.
«Г»: — Ты учился в 36-й?
Ш: — Да, но после 8-го класса меня выгнали, и заканчивал я 49-ю, напротив «табачки».
«Г»: — А за что выгнали?
Ш: — Ну вообще-то я очень плохо учил английский, отставал ужасно, по другим предметам тоже, но английский был за гранью всякой критики, а поскольку школа специализированная... И с мамой заключили соглашение: вы его забираете, а мы ему ставим тройку.
«Г»: — А родители имеют к театру отношение?
Ш: — Да нет, абсолютно нормальная хорошая семья. Я сам не думал об этой ерунде. Думал поступать в строительный, учился рисовать. А поскольку по математике были 4 и 5, то и пошел по этой линии.
«Г»: — А меня, кстати, предупредили: человек замороченный — мехмат, сама понимаешь.
Ш: — Замороченный? (Улыбается). Ну, может быть. Мне трудно судить. Я всегда себя считал человеком простым, примитивным. Когда я говорю об этом людям, они смеются. Не знаю, почему. Наверное, каждый себя считает сложной, интересной личностью. И мое признание звучит как кокетство. А на самом деле — это результат длительного многолетнего самоанализа.
«Г»: — Последний раз когда был в Ростове?
Ш: — Три месяца назад, проездом. Я же летом каждый год на море езжу. И всегда с родителями встречаюсь.
«Г»: — А почему ни разу не возникло идеи что-нибудь в местных театрах поставить?
Ш: — О-о-о-о (выражение человека, которого поставили в тупик). Даже не задумывался никогда... Ну, Ростов же не театральный город. Я никогда здесь не ходил в театры. Никогда. Может, раз был школьником в театре, но это было ужасно.
Фотограф: — О, встаньте здесь, на фоне этого желтого забора!
Ш: — Где, в каком месте? Ох, фотографии эти только редакторам и нравятся (растерянно позирует). Смотри, ты предлагаешь мне стать возле желтого забора. О'кей, я становлюсь. В итоге получается определенное закодированное высказывание: мое — около этого желтого, довольно противного забора. И я как бы говорю: вот что я думаю о Ростове! Вот я уехал, а он остался этим желтым говеным забором. А мне не кажется, что это есть мое высказывание. Ростов — хороший красивый город. Я был в Риме на съемках, это был такой удар красотой, что я просто потерял дар речи и соображение. Я ходил и вот так делал (оборачивается вокруг своей оси, не переставая щелкать воображаемым фотоаппаратом). То есть не какое-то место, куда надо идти: к собору пошел, собор снял, а вокруг — дерьмо. Эта красота — везде... Так вот этот прекрасный древний город напоминал мне Ростов. Это — Ростов, каким он мог бы быть, если бы у него были 2500 лет истории, и его жители ценили бы ту красоту, которая им досталась.
«Г»: — Золотые слова.
Угол Соборного. На фасаде дома надпись золотом «Гимназия № 36».
Ш: — Ого, это уже гимназия.
«Г»: — Школа — немодное слово.
Ш: — А может, это связано с особым статусом? Она была для детей богатых достаточно людей. И я помню, что мне это было неловко. Я им очень сильно портил картинку, я был из бедной семьи. Еще и учился плохо. И в результате очень справедливо меня отсюда попросили, вот как сейчас нас отсюда.
Появляется охранник, сразу приметивший подозрительных лиц.
Ш (виновато): — Здравствуйте, мы не снимаем школу. Мы снимаем вид на переулок.
«Г» (с вызовом): — А что, это секретный объект?
Охранник: — Да нет, почему, не секретный... Юбилей у нас просто. 100 лет. Уже и снимали, и по телевизору показывали фильм документальный. Я думал, вы по этому поводу...
Ш: — Двери, жалко, заменили. А вообще неплохо отремонтировали, гораздо чище стала. Красивый дом... А это — противочумный институт, похоже, по-прежнему. Очень живописно выглядит. Нет, правда, посмотри вокруг. Мне все еще жалко этот город. Его же разрушили в войну. Два раза сдавали, два раза брали. Центр города с землей сравняли. Очень грустное зрелище. Я видел большую послевоенную фотографию. Но ведь что-то сохранилось! И разрушается. Ну, вот университет, внутрь не пустят, наверное.
Выглядывают недовольные лица охраны.
Ш: — Не, пойдемте... Я сюда поступал, тут же мехмат был. И первая лекция первого курса была «История партии», как я помню... О, здесь наверняка продается паленый диск моего фильма
(на правой стороне улицы — ларек с DVD).
«Г»: — Можем проверить.
Ш: — Он очень плохого качества, мне говорили. «Тряпка». Есть же разные варианты пиратских дисков, есть «тряпка», когда они ставят видеокамеру в проекционной, а иногда — прямо в зале. А есть — на ночь одалживают копию в кинотеатре и оцифровывают. Это очень легко. Нужно только аппаратуру для сканирования пленки. Они могут даже Dolby digital снять.
«Г»: — А ты как относишься к пиратам вообще?
Ш: — Ну сейчас плохо. Смеемся.
Ш: — У меня на лицензии другая версия фильма, чуть длиннее и ближе к сценарию. Но иногда... я рад, что есть пираты.
Железная дверь подъезда. Дверь резко распахивается. Из подъезда выезжает мальчик на роликах, в руке — мусорное ведро.
Фотограф: — Ух ты. Здорово. А вот прошли бы раньше, и он бы в нас врезался!
Ш: — Да ладно, он медленно едет. И, кстати, ролики не очень, у меня лучше.
«Г»: — Да???
Ш: — Да! Что ты! Я года 4 назад встал на ролики и ездил целое лето на них везде: на репетиции, на деловые встречи. Когда умеешь, так быстро можно! А сейчас у меня есть велосипед, и я на нем тоже мотаюсь по всей Москве.
«Г»: — Странным тебя, наверное, считают человеком в Москве. Режиссеры должны на больших машинах ездить.
Ш: — Да нет, ну почему... а вот это моя вторая школа, смотрите, в ней Федоров (знаменитый российский хирург-офтальмолог. — «Главный») учился... И тоже поставили вездесущие эти белые двери. Металлоремонт.
«Г»: — Ужасные двери. Почему их так любят?
Ш: — Ну понимаешь, они доступные, худо-бедно функциональные, и это очень русская черта: люди, которые занимаются ремонтом, не исходят из понятия целого: посмотри на этот прекрасный дом и на эту жуткую дверь. У них даже не хватило силы воли на наличники. ...А здесь, за этими решетками, — спортзал, но судя по пыльным окнам (заглядываем в окно и видим старую шведскую лестницу)... а нет, спортзал все еще здесь. Мы почему-то тут все время в баскетбол играли. А я вообще люблю в бадминтон. Меня в Лиманчике научили, а я подсел на это и последние 4 года хожу в зал...
«Г»: — А знаешь, я как про фильм услышала, про «Дикарей»? Друзья говорят: «Надо идти на фильм». — «Что за фильм, кто играет?». — «Куценко, Башаров». — «Ну не знаю, не могу себя назвать поклонницей Куценко и Башарова». — «Да ты что! Это же про Лиманчик!». Святое место. Цыганское радио обогнало все анонсы масс-медиа.
Ш: — Ты знаешь, я ведь следил, чтобы слово «Лиманчик» в рекламе не прозвучало, и надеялся, что оно не выплывет за пределы Ростова. Я сознательно убрал его отовсюду. Но бывшие лиманоиды на всех сайтах разорались про это и продали место. Ай-яй (прототип героя Куценко, сотрудник журфака ЮФУ. — «Главный») первый и продал. Я был удивлен, что так легко...
«Г»: — А ты правда и сам лиманоид?
Ш: — Да! Каждый год езжу. И в этом был. Остался бы и подольше, но надо было монтаж заканчивать и озвучку.
«Г»: — И живешь вот в этих условиях — палатка, костер?
Ш: — А какие «эти» условия? Ты же была там?
«Г»: — Я была, конечно. Но в смысле быта это было ужасно, потому что в палатке на троих жили семеро.
Ш: — Ну молодые просто не умеют устраиваться. У нас все иначе. Ай-яй, он — кулибин такой, в этом году, например, сделал педальный умывальник с раковиной, крантиком, как полагается... А пойдем выпьем кофе. Я вас угощу.

Кофейня на Пушкинской, столик у окна. Шамиров тщательно изучает меню.
Ш: — О, смотри, что у них есть: кофе с самбукой, напиток итальянских рабочих. Тут называется «карета». Это такой глоток ядреной смеси, рабочие его в перекур выпивают... А если действительно хочешь взбодриться, бери эспрессо робуста. Но он жестокий. И горький. И его — 30 г.
«Г»: — Маловато будет.
Ш: — Ну по-русски это странно. А итальянцы, когда пьют эспрессо, даже не садятся. Выпил и пошел.
«Г»: — А если посидеть?
Ш: — Тогда американо. Но я не знаю, как они его тут делают. Если фильтр-кофе, это совсем говно, как в офисе, а если эспрессо разбавляют водой... здесь это называется «лунго», похоже. Я дома так и пью. А тебе советую капучино. Самый женский напиток.
«Г»: — Давай буду задавать тебе неприятные вопросы... Три критика в 2002 году, после «Трактирщицы» (спектакль по пьесе Карло Гольдони с Татьяной Васильевой и Валерием Гаркалиным. — «Главный»), назвали тебя «антиперсона года». Рецензии давали разгромные. Это тебя убивает или вызывает здоровую злость? Как вообще действует?
Ш: — ...Я тогда прочел это все... да. Я был в недоумении, потому что... не понял, почему это вызвало такую реакцию. «Трактирщица» — спектакль не выдающийся, но добрый и смешной. В красивых костюмах и оригинальной декорации.
«Г»: — У них больше всего упреков в пошлости, в том, что актеры кривляются и матерятся.
Ш: — Нет, нет, там не было мата. Это был текст Гольдони, я просто сократил его, ну, может, в паре мест что-то от себя добросил, но это нормально. Гольдони — живая драматургия... я не понял тогда, что вызвало такую реакцию... и то, что сразу все эти рецензии появились... и даже были схожи по оборотам. Людям не нравится по-разному, а здесь все обвинения одинаковые. В общем, я сильно расстроился, и с тех пор не читаю прессу про свои постановки. И ничего не потерял, потому что самые интересные вещи говорят не журналисты, а зрители и актеры. Не хвала, а что-то, что не приходило мне в голову. Вот это ценно. Кино — это новое для меня дело и мне было любопытно, что напишут. Написали... не скажу, что обидели... Но... я с чем связываю эту реакцию — был организован пресс-показ, и зря. Представь, сидят одни критики, все друг друга знают. Молча отсмотрели, похмыкали и пошли писать свои рецензии. А если б они сидели в премьерном зале среди людей, которые смеялись, они бы видели природу этого фильма. А эта терпимость снисходительная... к чему она?
Официант с королевским достоинством приносит капучино с высокой пеной и лунго — крохотную чашку эспрессо с микростаканом воды.
Ш: — Н-да, обычно дают чашечку побольше, чтобы было куда доливать... Ух, холодную воду дали, как для кофе по-восточному. Ну хорошо, надеюсь, она хоть кипяченая.
«Г»: — А эта ужасная фраза «Известий»: «Уходите из театра, Виктор Шамиров, вам в нем не место» повлияла на карьеру?
Ш: — Трудно судить, наверное, повлияла. Но на посещение спектаклей критика не влияет. Она выходит сразу после премьеры и известна узкому кругу. Приедет в Ростов «Трактирщица», кто там будет знать, что про нее писали 4 года назад? Всем по барабану. Сходят. Я тебе больше скажу — сходят и будут рады. Потому что смешно... Не знаю, пошло это или нет, думаю — не очень. Я вообще люблю грубую комедию, не вижу зла в этом. Театр ведь от пошлости неотделим, как любое массовое искусство. Если такое искусство пытается быть рафинированным, это глупо. Если ты хочешь, чтобы твое произведение видели сотни тысяч людей, делать вид, что ты эстет... не понимаю. Если ты эстет, у тебя иная авторская задача — сиди тихо, пиши картинку, стишочек. А когда человек пытается обращаться к сотням тысяч и делает вид, что для него только вершины духа важны... Человеку на вершинах духа не нужны сотни тысяч зрителей. Я так думаю.
«Г»: — А ты хочешь обратиться к сотням тысяч.
Ш: — Да-а, я обращаюсь, я пытаюсь. Ну например, мой спектакль Ladies' Night (история о заводских парнях, которые, потеряв работу, решили заработать на стриптизе. — «Главный») посмотрели сотни тысяч.
«Г»: — Он самый успешный в коммерческом плане?
Ш: — Из моих? Да. Но я тебе скажу, что и не только из моих (смеется). Это, мягко говоря, самый кассовый драматический спектакль последних лет четырех.
«Г»: — Ого.
Ш: — Серьезно тебе говорю. Он 300 раз прошел при набитых залах. Был эксперимент пару лет назад: мы играли его каждый день две недели в Москве, а так не принято. Мы играли в «Сатириконе», там тысяча мест. Первый день — нормальный полный зал, последний — в театре собрали все стулья, некуда сесть. И я понял: если б актеры обладали временем и силами, его можно было бы играть каждый день.
«Г»: — А в чем секрет успеха? Злые люди говорят, что вся фишка в голых мужских задницах.
Ш: — Я так не считаю. Во-первых, буду честным, эти задницы не являются образцом совершенства (в спектакле заняты Гоша Куценко, Марат Башаров, Дмитрий Марьянов и др. — «Главный»). Это взрослые мужчины, которые находятся в разной физической форме. Некоторые следят за собой, некоторые нет, с красавцами из стриптиза они сравниться никак не могут.

«Г»: — Так и фишка британского фильма Full Monty именно в несовершенстве этих задниц.
Ш: — Да, фильм сделан по той же пьесе. Если б это делали мачо, было б не смешно. И еще там есть скрытая история... я просто не считаю нужным скрытые истории доводить до сознания зрителя. Это, кстати, одна из причин, по которой меня обычно ругают критики. Они не видят месседжа. Чтобы все смеялись-смеялись, а в конце загрустили, посерьезнели и подумали: ах, вот к чему это было. Я такого рода структуру с юности презираю. Я видел это много раз. А на самом деле хочется просто смешить. Этого достаточно. Это даже больше чем нужно. Это смысл театра на самом деле. Не надо считать, что смеха нужно мало, его нужно много. Тем более в наше время... Мы с тобой сейчас шли, ты видела хоть одно улыбающееся лицо? Это суровая северная страна серого цвета, где у всех — серые лица. Они не злые. Мы — такие же. Просто не принято радоваться жизни. И если люди три часа смеются, я считаю, этого достаточно.
«Г»: — Нет, ну смотри, у того же Марка Захарова, твоего учителя, ведь именно так все: там есть и смех, и грусть, и довольный четкий месседж.
Ш: — Ммм... люди устроены по-разному, и если Марк Анатольевич считает, что нужен месседж, — это его позиция...
«Г»: — Для многих его фильмы как икона, а для тебя они являются... любимыми хотя бы?
Пауза секунд на 10.
Ш: — ...Я очень их ценю. Я ценю, как сделана вещь.
«Г»: — Как изящную шкатулку?
Ш: — Для художника в шкатулке — целый мир. Форма вообще важнее содержания. Вот человек высказался, прошло сто лет, форма существует, а содержание изменилось. Кому сейчас какое дело до высказывания Пушкина в «Руслане и Людмиле»? Пародийное было, остроумное высказывание. Тогда. А сейчас детей заставляют учить это в школе, и они мучаются. Так вот, в спектакле Ladies’ Night есть скрытая история, она состоит в понижении жанра. Там и в самой коллизии есть противоречие: сначала люди — на дне, и они бездействуют. Потом находится возможность действовать, кажется, что это прекрасно, но, если по правде, то к чему они двигаются? И социальная драма потихоньку скатывается в комедию характеров, комедия — в фарс, и дальше кажется уже некуда, но и после этого можно выйти с голым задом. Это не Comedy Club — Comedy Club просто аккумулируют отовсюду шуточки и сдабривают их словами «сука» и «тупо». Рецепты просты. Вот. (Берет салфетку в руки). Салфетка, сука, зеленая, и она тупо треугольная. Видишь, смешно. Ситуация неформального отношения к привычным предметам. Они на этом играют.
«Г»: — Ну да, простые и эффективные схемы.
Ш: — Так почему людям весело смотреть спектакль до конца: люди освобождаются от правил, которые я сам им предложил. Приходят довольно чинные зрительницы и сурово смотрят первую часть, а в конце кричат: «Снимай штаны!» Визжат просто. Они разогреты этим смехом и скрытой историей позволения. Я позволяю себе говорить грубее, чем раньше. А они позволяют себе быть проще. Групповая психотерапия своего рода.
«Г»: — А в «Дикарях»...
Ш: — А в этом фильме, там, несмотря на его видимую простоту, — «он ни о чем!» — пишут на форумах. — «сюжета нет!». И отсюда — неприятие: повествование есть, а сюжета нет. Я пошел на это сознательно, а не потому, что я лох и не умею писать сюжетов. Я придумал несколько сюжетов и от всех отказался. Я понял, что это не будет правильно. Не передаст ту эмоцию, которую я хотел. Сюжет обладает энергией — если ты в него вошел, не выйдешь. А я искал другие способы решения. На самом деле трудно удержать внимание простого, не фестивального, никакого зала. Попробуй, сделай это. Тут люди на историях обжигаются, наши вот блокбастеры. А я читаю блоги, не друзей слушаю — друзья-то меня хвалят, понятно, а читаю ЖЖ: честное мнение. Человек посмотрел и написал: фильм — говно, актеры — говно. Люди пишут разное, но если они пишут: «Я не знаю, о чем это кино, но ощущение очень светлое и на море хочется», то все.
«Г»: — То есть этого ты и добивался?
Ш: — Да, и я это сделал. Сохранил ощущение света.
«Г»: — «Афиша» назвала это «элегией о курортном свинстве с голыми людьми», прокатчики — комедией...
Ш: — Это не комедия! Жанр — для продаж, мне не нужна координата. Полтора часа лета — нормальный жанр. Люди в фильме, они пытаются ухватить этот свет, думают, что он в бабах, в водке... Меня все ругают, что в фильме много секса, точнее, его желания. Но это не потому, что я такой озабоченный, у меня нормальная жизнь с этой стороны, как правило (смеется), а потому что через это видно, как нелепы люди в поиске радости. Они же радость хотят как-то назвать, чтобы потом найти. А радость не там. Тот момент, когда они сидят за столом, светит солнце, и они говорят о какой-то фигне, это и есть радость... Невкусный кофе. Пойдем?
Унылый парк имени Горького. Скрипит потертая «Орбита».
Ш: — Качели не меняются, те же.
«Г»: — Будку с билетами поменяли зато. Или нарастили просто треугольники.
Ш: — А-а, точно треугольнички приделали.
«Г»: — Так как ты попал к Захарову?
Ш: — Случайно. Я тогда играл у Изюмского (ростовский режиссер, организатор экспериментального театра «Эпос». — «Главный»). И к нему тоже попал случайно. Шел по улице и столкнулся со знакомой. Она говорит, хороший театр открылся, давай я тебя устрою. Подошли. Сидит человек под деревом. Такой хороший, с бородой. «А что ты умеешь делать?» — «Не знаю. Ничего». И стал работать непонятно кем. Два года провел там. Осветителем, иногда спектакли ставил. Я благодарен Изюмскому. Я понял что-то...
«Г»: — А потом понял, что в Ростове делать нечего.
Ш: — Ну да. Была весна. И я снова встретил знакомую, другую, которая сказала: «А что ты тут сидишь? Поезжай в Москву. Там прием у Захарова». Я подумал: ничего себе — Захаров. Величина. Крутые люди там. Но поехал. Я не знал, что такое прослушивание, не знал, что такое экспликация.
«Г»: — А что это?
Ш: — В контексте — очень краткое изложение замысла спектакля. А в конце концов взяли. Непонятно как.
«Г»: — Ой, смотри (останавливаемся у тумбы с афишей «Дикарей»: у героя Куценко выцарапаны клыки). Натуральные дикари.
Ш: — Другое название, кстати, было. «Край лета». «Дикари» — запасное.
Улица Садовая.
«Г»: — Насколько сложно заинтересовать популярного артиста? Серебренников ставил, кажется, со всеми звездами.
Ш: — Кира работает в определенных театрах и выбирает из штата. А МХАТ и «Современник» сейчас — средоточие популярных актеров. Особая ситуация с Меньшиковым, у него независимое товарищество, и само его присутствие является событием.
«Г»: — А с кем бы ты хотел работать?
Ш: — У меня нет амбиций такого рода. Режиссеру нет смысла утверждаться за счет звезд. У Киры самый хороший спектакль был «Пластилин» — с молодыми неизвестными актерами. Важно не с кем, а как.
«Г»: — А не было желания в Ростове, если не ставить, то снять?
Ш: — Было... Ну я-то снимал бы все равно нереальный город. И сделал бы Ростов похожим на Рим. На мечту о южном городе. Феодосия Грина — она тоже совсем другая в книгах. Для Ростова можно это сделать при определенном выборе мест.
«Г»: — Каких? Пушкинская — да?
Ш: — Пушкинская — да. Я бы поискал место. На Садовой бы тоже снимал: выбрал бы очень чистые кусочки для контраста дворам. Якобы Ростов — город контрастов. Единственное, куда бы не поперся — на Северный. Это — правда, но мне такая правда не кажется красивой... Разве, может, то место, где Сурб-Хач стоит. Фотограф: — У меня сейчас такая ситуация произошла! Я в парке через паровозик вас снимал, и водила вышел: че ты тут фотографируешь, давай мне 50 рублей, папарацци такой-сякой, иди отсюда! Обматерил меня.
Ш: — Ну-у, спорная ситуация.
«Г»: — Кстати, мат. Вот матом сейчас не удивишь никого — и в артхаусе есть, и в сериалах...
Ш: — Я думаю, мат скоро могут запретить окончательно. Общий климат культурный имеет государственную тенденцию к закрытию.
«Г»: — А может, наоборот — пропадет сакральность. Как в Америке.
Ш: — Нет, наоборот, закроется и будет по-прежнему оставаться сигналом неформального общения. Люди часто пробрасывают ненормативное слово, чтобы подчеркнуть близость: «мы с тобой — братья, б...ь». В фильме у меня есть мат, но в киноверсии, я посчитал, только 6 слов. Хотя людям кажется, что их там немерено... А вообще снимать фильм про русских людей, которые пьют водку и при этом не матерятся, в этом есть что-то нечестное. Согласись.
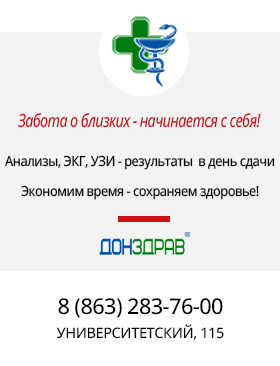

 Перейти в архив
Перейти в архив