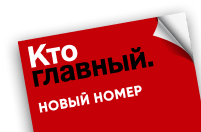
Он родился, как Александр Блок, в 1880-м — в поколении тех, кто «делал» Серебряный век. И до конца своих долгих дней носил на красивом армянском челе отблеск этого дивного, казалось бы, безвозвратно ушедшего в историю века.
Вдали от столичных салонов, где век этот набирал силу, на маленьком хуторе под Ростовом, который теперь носит имя Чкалова, прошло детство Сарьяна. Отец Мартироса — Саркис — построил домик из саманного кирпича, покрыл его камышом. Вокруг простирались бесконечные степи, дерзко благоухали полевые цветы, над ними кружились тысячи пестрых бабочек. Родители рассказывали о далекой родине — фантастически прекрасной Армении. Семья Сарьянов попала на Дон из Крыма.
В 1795 году.
«Мой дед Мкртыч и его брат получили участки земли на берегу речки Самбек. Но братья не пожелали оставаться в этих необитаемых местах и решили во что бы то ни стало переселиться в Константинополь», — вспоминал Сарьян. Мкртычу Сарьяну удалось добраться до Турции, но когда он возвращался за семьей, буря разбила корабль вдребезги. Все пассажиры погибли, а Мкртыч, прекрасный пловец, кое-как выбрался на берег. Примирившись с судьбой, дед будущего живописца поселился в донской степи. Его сын — Саркис выучился мастерству у плотника, мастера ветряных мельниц, строил ветряки по всей России, а в тридцать лет перебрался в Нахичевань. Здесь он познакомился с местной красавицей по имени Устианэ, дочерью мастера на табачной фабрике Кушнарева. Мартирос стал их седьмым ребенком.

Мартирос Сарьян с женой, сестрой, сыновьями, невестками и внучками.
Когда Сарьяну исполнилось семь лет, отец отвез мальчика в Нахичевань — в школу. В те времена дорога от Самбека до Нахичевани на повозке заняла почти двое суток. Городок показался маленькому Сарьяну очень тесным — дома стояли впритык друг к другу.
В школе, куда поступил Сарьян, учились в основном дети из бедных семей. Дети любили подраться, а учителя выгоняли их за это из класса: «Идиот, подлец, негодяй, скотина».
В 15 лет Мартирос Сарьян окончил Ростовское городское училище и поступил в контору по распространению почты.
«В свободное время я увлеченно читал газеты и журналы, рассматривая иллюстрации, — вспоминал Сарьян в мемуарах «Из моей жизни». — Среди посетителей иногда попадались интересные типажи. Я садился в глубине конторы и начинал рисовать, конечно так, чтобы посетители ничего не заметили».
Однажды, после того как он сделал карандашный портрет одного старика, тот заболел. Злые языки связали это с мистической силой сарьяновского рисунка. Кто-то даже осудил — но было уже поздно. Художество захватило Сарьяна и вошло у него в привычку.
В 1897 году при поддержке старшего брата Ованеса молодой человек приезжает в Москву и выдерживает конкурс в Училище живописи, ваяния и зодчества.
Возрастной состав студенчества на курсах был различным — от бородатых мужчин до юношей, от взрослых женщин до юных девушек.
Сарьян учится прилежно, постигает азы ремесла.
На летних каникулах в 1901 году Мартирос Сарьян едет в путешествие по Кавказу и Закавказью. Его манит историческая родина — Армения. То, что он видит, ошеломляет его. Горы, арыки, цветущие долины и неправдоподобно яркие краски. Здесь рождаются его первые пейзажи, но Сарьян ими не доволен. Он чувствует, что школа душит его, знание приемов живописи только мешает, а палитра слишком сера, чтобы передать природное великолепие.
Между тем педагоги им весьма довольны. В 1903 году Сарьян оканчивает училище с двумя серебряными медалями и поступает в мастерскую Валентина Серова и Константина Коровина. Серов требует от учеников точной композиции рисунка и внутренней логики картины. Коровину важнее яркость образа, точность глаза, да и сам он значительно более раскован и мягок.
Мартирос благодарен обоим, но он понимает, что ему как художнику предстоит обрести совершенно новые качества, а для этого — от многого отречься, многое забыть. Вдохновляющим примером для него служат увиденные в Армении древние храмы. От одного взгляда на них, стоящих среди скал, у него перехватывало горло — так просты, аскетичны и изящны они были. Тогда он понял, что «изящество» — от слова «изъять». Отсечь лишнее. Сарьян заводит привычку молиться перед работой. На первой странице записной книжки, которую он ведет по-русски, — единственный армянский текст. Это древняя молитва о победе добра над злом.
Искания Сарьяна созвучны времени. Чтобы уйти от механического копирования «натуры», художник начинает писать фантастические акварели. Изображения зыбки, туманны, почти эфемерны. За 1903 — 1907 годы складывается целый цикл — «Сказки и сны».

Сарьян с ростовским племянн иком Никитой.
В 1907 году Сарьян с группой художников участвует в выставке «Голубая роза». Выставка имела весьма разноречивую прессу. Известный критик Маковский сравнил ее со светлой часовней для немногих, а картины — с молитвами. Зато художник Грабарь не без сарказма заметил: «На выставке было непростительно много «приятностей» и до одури много «вкуса».
Просвещенная, толерантная и отягощенная солидным багажом европейской культуры, русская публика начала ХХ века готова была спустить многое. Она сама поощряла эксперимент в искусстве. Без нее, собственно, никакой Серебряный век бы не состоялся. Это она позволяла щеголяющему в желтой кофте Маяковскому плевать ей, сидящей в первом ряду, водой в лицо. Это она благосклонно выслушивала «дыр-бул-щир» Бурлюка, усматривая в абракадабре отблеск гениальности. Но и ее прогрессивность порой ломалась на каком-нибудь молодом даровании.
Так произошло с Сарьяном. Его картина 1907 года «Комета» была освистана и осмеяна. А между тем картина замечательная. Звезда падает на землю, отражаясь в глазе озера. Это видит помещенный в центр события человек с единственным оком — не кто иной, как сам художник Сарьян. Потом этот одноглазый двойник появится еще в нескольких ранних работах.
Зрители не впечатлились «Кометой». Они решили, что Сарьян попросту не владеет азами ремесла.
Неласковая встреча современников не выбила его из колеи. «Кругом собачий лай, — спокойно фиксирует Сарьян в письме к другу, — лаются почти все газетные собаки, ведь ругаться легче всего, а сделать что-нибудь — труднее всего. Я иду твердо по своей дороге и больше чем убежден в правильности того, что делаю».
Помощь пришла из Франции. Меценаты Щукин и Морозов выставили в Москве работы Матисса, Гогена, Ван Гога. Сарьян был взволнован — он понял, что абсолютно прав. Ведь и Гоген говорил про то же самое: «Художник должен быть самим собою, только собою, всегда собою».
Матисс, к примеру, вполне мог нарисовать на женском портрете зеленый нос, если образ этого требовал. На упреки упертых реалистов он отрезал: «Я рисую не женщин, а картины».
Так и Сарьян через несколько лет скажет: «Если природный цвет — синий, но картина просит красного, я дам ей красный». А пока, вдохновленный французами, он написал свой автопортрет.
«Освещенная сторона лица дана в желтовато-золотистых и золотисто-красных тонах, а затененная — в синих. Волосы и усы в тени — черные, а в освещенных местах — светло-синие. Мне казалось, что этими простыми средствами я каким-то образом достиг того, к чему стремился», — так сам Сарьян описывал эту работу.
Многими посетителями выставки «Автопортрет» был отвергнут. Бывали случаи, когда посетители требовали обратно свои 40 копеек.
Впрочем, выставку посетил и сам Щукин. Подойдя к «Автопортрету», он принял артистическую позу и стал, слегка заикаясь, расхваливать его, говоря Сарьяну: «Работа чудесная, вы великолепный портретист». Тут же он попросил написать портрет его сына.
Сарьян был ошеломлен.

Мартирос Сергеевич с невесткой и внучкой.
Следуя французам, Мартирос отправился в поисках самого себя — на Восток.
В 1910 — 1913 годах Сарьян совершает путешествия в Турцию, Египет, Персию. Он ищет на Востоке свои корни, глубинный родник, которым питается его существо.
Часами он наблюдает за пестрой толпой на улицах и базарах, наслаждается первозданным укладом человеческой жизни. Женщины в черных и розовых паранджах плывут мимо, перебирая ножками в деревянных туфлях, их черные миндалевидные глаза волнующе блестят. Верблюды, покачиваясь, вышагивают по желто-розовому песку. Разноцветные собаки стаями передвигаются по городу. Палящий зной расплавляет воздух, ослепительно яркий свет рождает невиданные цветовые эффекты. Щедрое солнце заливает мир, и мир рождает отклик — один непрерывный вопль восторга.
В 1910 году слава наконец находит его. Третьяковка покупает у молодого художника сразу несколько картин — «Глицинии», «Фруктовая лавочка в Константинополе», «Улица. Полдень. Константинополь». Новый Сарьян потрясает воображение, восхищает. О нем написана первая серьезная статья. Автор — известный поэт и художник Максимилиан Волошин.
Больше всего в это время Сарьян боится стать «модным» художником, погрязнуть в самоповторениях, штампах и клише. Чтобы не застаиваться, он снова готов к путешествиям на край света — в Индию, Китай, Японию. Его манит разнообразие жизни.
В 1915 году Сарьян, несмотря на начало первой мировой войны, — вполне успешный живописец с собственной мастерской в Москве. Но художники не умеют жить спокойно. Как когда-то Чехов в зените литературной известности бросил все и отправился переписывать каторжников на Сахалин, так и Сарьян с места в карьер помчался в Эчмиадзин. В это время туда перебрались 100 тысяч турецких армян, спасаясь от резни и геноцида в Западной Армении. После прибытия в восьмитысячный Эчмиадзин стотысячной армии страдальцев в городе начались эпидемии и голод.
Сарьян с друзьями пытались помочь беглецам. Были образованы добровольные благотворительные общества, но они оказались бессильны.
Тысячи людей сидели на улицах и умирали от болезней. На глазах Сарьяна одна женщина похоронила в течение шести дней всех своих детей — в день по ребенку. Последнюю девочку она обернула в саван из собственной одежды, сшив его своими волосами.
Тонкая нервная организация художника не выдержала. С признаками явного психического расстройства друзья увезли его в Тифлис.
Потрясенный ужасом, Сарьян долго ничего не писал. Первой его картиной стал натюрморт с цветами. Кое-кто попытался выразить удивление: почему цветы, а не трагедия собственного народа. Сарьян отвечал: искусство не должно возвращать людей в кошмар, который они пережили наяву. Глазам, пролившим слезы, и душам, испытавшим страдания, надо дарить красоту и радость. Этому правилу не любивший прочие правила художник следовал всю жизнь.

В 1916 году он женился на Лусик Агаян, дочери известного армянского писателя. В счастливом браке с ней он проживет 56 лет.
С Лусик 36-летний Мартирос познакомился в Тифлисе, в кафе «Чашка чая». Сарьяну сказали, что девушка — дочь известного сказочника Газароса Агаяна. Лусик преподавала в женском училище и жила на скромные средства.
— Мы обвенчались в сельской церкви. Обряд по нашей просьбе был сильно сокращенным, в Цхнетах, недалеко от Тифлиса. После этой процедуры мы вместе со свидетелями — его другом и ее матерью — выехали на зеленую полянку, очень весело провели время, попивая красное вино. Это был один из самых счастливых дней нашей жизни — ясный солнечный день, — вспоминал Сарьян.
После свадьбы супруги перебираются в Нахичевань, в дом матери художника на улице Софиевской (ныне Майская, 29). Сейчас на этом здании — мемориальная доска: «В этом доме с 1916 по 1921 год жил выдающийся художник современности, Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, действительный член Академии художеств, лауреат Ленинской и Государственной премий Мартирос Сергеевич Сарьян (1880-1972)».
Здесь, в Нахичевани, в 1917 году родился старший сын Сарьяна — Саркис, в будущем историк армянской и итальянской литературы, а в 1920-м — младший, Газарос, в будущем известный композитор.
На Дону в те годы — центре Белого движения, Мартирос занимается педагогической и краеведческой деятельностью. Сарьян ведет класс живописи в художественной школе имени Врубеля — она помещалась в здании напротив нынешнего Молодежного театра (до недавних пор в этом здании находилась библиотека имени Пушкина, а сейчас здесь планируют открыть музей русско-армянской дружбы).
В 1919 году Мартирос увлечен созданием армянского краеведческого музея. Музей открывается уже при новой — советской власти, в апреле 1920 года. Сарьян его директор. В 1921 году он оформляет спектакль «Принцесса Турандот» в Ростовском музыкальном театре.
В том же 1921 году, после того как в Армению приходит советская власть, по приглашению председателя совнаркома Мясникяна Сарьян переезжает с семьей в Ереван — уже навсегда.
По словам Сарьяна, он сам попросил Мясникяна организовать его переезд в Ереван. Тот официальным письмом пригласил художника в Армению для участия в создании республиканских культурных учреждений. Из Армении Мясникян прислал целый вагон с подарками для бойцов Красной Армии. Этим же вагоном 1 октября 1921 года семья Сарьяна отправилась в Ереван. Проезд до Еревана занял две недели.

Супруга Мартироса Сергеевича — Лусик на открытии посмертной выставки Сарьяна в Ростове-на-Дону.
Советской Армении нужно было яркое, выразительное и запоминающееся лицо. Своим портретистом она выбрала Сарьяна. Мартирос Сергеевич нарисовал новорожденной республике герб и флаг, расписал занавес в первом государственном театре. Природный патриот, страшно далекий от политики, он ничего не имел против того, чтобы его «сны о Востоке» превратились в «сны об Армении».
В 1924 году работы Сарьяна экспонируются на венецианской биеннале и имеют феерический успех. Его начинает замечать Европа. А в 1926 году достигший творческой зрелости мастер едет в столицу художников — Париж.
Поселившись в дешевой квартире на берегу Сены, Сарьян работает без передышки. За полтора года написаны почти 40 картин. Все они с восторгом приняты избалованной французской публикой. Только четыре картины написаны «с натуры» — парижские улочки и набережные. Остальное — Армения, в фирменном сарьяновском стиле.
Предисловие к каталогу выставки сочинил именитый критик Луи Воксель. Среди прочего там было сказано: «Сначала Сарьян нарисовал Армению, а уже потом ее создал Бог».
Итак, Европа раскрыла Мартиросу Сарьяну свои объятия, но он вернулся на родину. Железный занавес еще не опустился, страха не было, а невидимый магнит тянул домой.
По дороге из Парижа все картины Сарьяна — дети его парижского вдохновения — сгорели дотла. Осталось только несколько этюдов, которые он держал при себе. В книге «Из моей жизни» Сарьян рассказывает об этой драме с пронзительной лаконичностью:
«Французский пароход «Фиржи», который вез мои картины, должен был погрузить в Новороссийском порту яйца и с этой целью забрал с собой древесные опилки. Ящики с картинами были уложены как раз на этих опилках. В Константинопольском порту на корабле по случайной причине, или преднамеренно, возник пожар — загорелись опилки — и... от моих сорока картин остался лишь небольшой клочок холста».

Лусине с невесткой и внучкой.
С пустыми руками Сарьян вернулся на свою социалистическую родину. Жизнь опять надо было начинать с чистого листа. Со всеми жизненными передрягами Сарьян справлялся одним способом — работой. В 1932 году правительство Армении, помня о его международных успехах, построило ему в Ереване дом и мастерскую — по образцу тех, что Мартирос Сергеевич видел в Париже. С окнами в потолке, чтобы можно было работать весь световой день. Он теперь часто пишет маслом — краски не так быстро сохнут, как темпера, и можно писать с натуры. Кроме пейзажей и натюрмортов Сарьян 30-х годов создает великое множество портретов. Художник будто бы спешит запечатлеть своих друзей — граждан страны, где гайки закручиваются все сильней и стремительней.
В 1936 году Сарьян оформляет спектакль Ростовского театра имени Максима Горького «Тигран», поставленный по пьесе нахичеванского драматурга Федора Готьяна. В роли Тиграна — Николай Мордвинов. Сарьян пишет портрет знаменитого актера. Портрет Мордвинова одна из немногих сохранившихся работ Сарьяна того времени — в 37-м году почти все портреты уни-чтожаются. Многие герои, служившие ему моделями, признаны врагами народа и репрессированы. Сарьяновские шедевры сорваны с музейной стены и сожжены — точно как «запрещенные» книги на уличных аутодафе гитлеровской Германии.
Рискуя жизнью, сотрудники музея прячут за шкафом портрет репрессированного поэта Егише Чаренца. Картина пролежит за шкафом ровно 20 лет.
Сарьян раздавлен происходящим. Начинается его новый «обет молчания». Шесть картин за предвоенную пятилетку. Но среди них есть замечательная — портрет Ахматовой 40-го года. Эта работа была, безусловно, поступком. Жена расстрелянного мужа, мать посаженного сына, поэт (Ахматова не любила слова «поэтесса»), которому заткнули рот... Именно в это суровое время Сарьян пригласил ее в свою московскую мастерскую. На портрете — погруженная в себя, исполненная внутреннего достоинства женщина. Властительница дум Серебряного века, родом из которого — и сам Сарьян.
Не странно ли, что война принесла художнику чувство творческой свободы? Впрочем, не странно — так всегда бывает, когда граница между жизнью и смертью истончается до прозрачности. За пять военных лет он напишет 200 картин!
В них все отчетливее проглядывает Сарьян-философ, восточный мудрец, умеющий совмещать временные планы. На картине «Три портрета» — он сам в трех ипостасях: юноша, мужчина и старик. А на картине «Моя семья» жена Лусине чистит мандарин перед зеркалом — в стекле же вместо оранжевого фрукта отражается письмо от сына, ушедшего на войну. Что бы мать ни делала, все ее мысли — о ребенке...
Сразу после Победы Сарьян создает свой самый большой натюрморт — «Армянам — бойцам Великой Отечественной войны». Бесчисленные букеты ярких цветов, садовых и полевых, стоят в простодушных стеклянных банках. Ими заполнено все пространство картины.
«Больше солнца, я люблю только солнце!» — говорил Сарьян. И это правда. Его картины излучают свет, а краски праздничны и ликующи.
Современные армяне на русскоязычных ресурсах интернета с гордостью называют творчество своего знаменитого соплеменника «цветотерапией», подкрепляя это формулой: «Сарьян рулит!»
Певец радости, он хлебнул немало горечи. Жизнь Сарьяна контрастна, как краски на его полотнах. С одной стороны — вроде обласканный государством художник, обладатель многочисленных званий и регалий, лауреат Сталинской и Ленинской премий, Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР. При жизни построили музей его имени, широко отмечали его юбилеи, позволяли работать в разных жанрах — и в живописи, и в книжной графике, и в сценографии.
С другой — система всегда чувствовала его оппозиционность, замешанную на внутренней независимости и удивительной творческой искренности. Не случайно две его крупные персональные выставки разделяет целых 20 лет — в 1936-м и 1956 годах. А для художника это вакуум.
Власти не зря перестраховывались. При всем официальном статусе монументальных полотен Сарьяна в них не было и грамма конъюнктуры. Зато присутствовал легкий привкус волшебной мечты, так и не пожелавшей превращаться в непререкаемую догму. Вольная стихия творчества пронизывала все, чем он занимался. Даже в конце 30-х на панно, посвященном счастливой жизни в Советской Армении, он нарушил канон — он не стал рисовать Сталина. Пришлось организаторам ВДНХ ставить скульптуру вождя «на фоне».
Он не лез в политику, но был смелым человеком. В 1948-м, когда началось повсеместное шельмование советских художников«формалистов», Сарьян на каком-то цеховом собрании встал и рассказал «историю из жизни». Речь шла о молодом художнике начала века, который срисовывал свои картины с фотографий, а когда его случайно разоблачили, покончил с собой. Партийные бонзы поняли, в чей огород этот камешек. «Задушим рублем», — шепнул один член президиума другому...
В 1952 году судьба сводит Сарьяна со сверхсрочником погранвойск Тимофеем Теряевым. Работы 33-летнего пограничника из Ростовской области приводят Сарьяна в восторг. По его просьбе Теряева — будущего мэтра донской живописи — зачисляют на второй курс Ереванского художественно-театрального института.
И еще один так сказать краеведческий штрих. Благодаря заступничеству Сарьяна в 60-х годах чудом избежал сноса ростовский Сурб-Хач.
...Между тем, одни вожди сменяли других, а Сарьян продолжал заниматься своим делом — рисовать. Он прожил 92 года, и последняя его картина написана за месяц до смерти, в апреле 1972-го. Дух новаторства не оставлял его и в старости: солнце в правом верхнем углу холста приняло вид новорожденного ребенка, а место подписи занял красный круг. Символ бесконечной жизни — как намек на то, что никто ни с кем не прощается.

Сарьян с внучкой.
Сарьяна можно не знать, но, узнав, нельзя не полюбить. Посмертные выставки варпета — так называют армяне мастеров — прошли по всему миру.
Бессмысленно описывать его картины словами. Самое верное — дать волю безмолвному восторгу глаз. В крайнем случае — озвучить свой вздох: «Боже, как красиво!» Так мастер метафоры Юрий Олеша, который, говорят, мог сравнить все со всем, когда влюбился по-настоящему, только бесконечно повторял: «Дружочек мой! Друзик!» Никаких сравнений и эпитетов. Окружающим это казалось примитивным. А писатель был прав: истинная любовь скупа на слова.
Сегодня в ереванском музее Сарьяна работают его внучки — Рузан и Софи. Музей испытывает трудности: нет денег, реставраторов и достойных условий для хранения шедевров. Темпера на картинах 1910-х годов отпадает слоями, а внучки пишут письма в разные инстанции, надеясь на чудо. Время от времени руководители города намекают, что неплохо бы заработать денег самим, устроив в музее какое-нибудь современное шоу для туристов.
— Мы не собираемся снижать уровень наших экскурсий! — гордо заявляет директор музея Рузанна Сарьян. — Это классика. Предпочитаем иметь такого зрителя, который приходит на искусство именно Сарьяна.
И такой зритель есть. И ценитель тоже. На аукционе «Гелос» за акварель Сарьяна «Комета» была объявлена стартовая цена
— 16 тысяч долларов. За ту самую «Комету», о которой так пренебрежительно отзывалась салонная московская публика начала прошлого века.
А 1 апреля 2009 года неизвестный поклонник похитил несколько полотен Сарьяна из Национальной галереи Армении в городе Раздан. И это не первоапрельская шутка. Скорее, такой жестокой шуткой было последовавшее 2 апреля сообщение пресс-службы республиканской полиции о том, что раскаявшийся вор вернул картины на место. Нет, не вернул. И если не толкнет их на ближайшем аукционе, будет обогреваться Солнцем Сарьяна единолично. А это неправильно: оно светит для всех.

Открытие памятника Сарьяну на 45-й линии в Ростове-на-Дону.
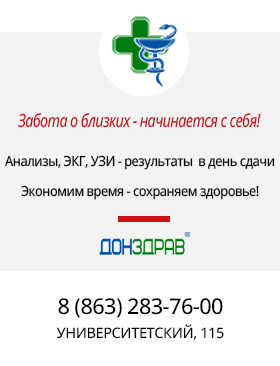

 Перейти в архив
Перейти в архив