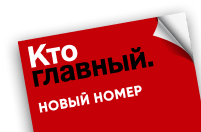
«Мой Достоевский имеет преимущества».
На вопрос: «А покупает ли кто-нибудь в Ростове ваши картины?» в 1996 году Тимофей Федорович отвечал: «Никто. Как-то приходил один пьяный, говорил, что хочет купить. А я ему — приходите в нормальном состоянии, тогда и поговорим. Но он не пришел. Так я спугнул своего единственного покупателя».
— Его в общем-то не понимали и травили — старшее поколение, официоз. Заказов не давали... Я жил с ним в одном доме, этажом выше, — рассказывает Валерий Резанов, старший научный сотрудник Областного музея изобразительных искусств. — И нтеллигентный был человек, очень начитанный. Он никогда не стремился к славе. Это было не в его характере. 80 лет прожил, и даже заслуженным не стал. Никогда ничего не просил. Молодые лезли, выпячивались, а он — нет. Когда мы делали его выставку в Москве, на ее открытие пришли иностранные дипломаты. Они говорили: да если бы его выставку сделать в Париже, к нему был бы интерес как к постимпрессионистам круга Матисса. Но он к этому не стремился. Ему предлагали выставиться за рубежом, но он отказывался.

— В моем детском опыте настоящий художник — это Теряев. Я не видел других настоящих художников. Конечно, это первоклассная живопись. Такой русский модернизм, — рассказывает Авдей Тер-Оганьян, художник, член товарищества «Искусство или смерть». — Теряеву место в Третьяковке, в разделе советского искусства. В этом искусстве он не занял своего места — система Союза художников не двигала его. И надо бы ростовчанам сделать это. Надо его в Третьяковку вписать.
Из воспоминаний Теряева:
«9 июня 1993 года состоялась моя персональная выставка в Москве. Наверное, я ее ждал всю жизнь, но когда она открылась (без меня) радости особой я не испытал. Звонили, говорили, что приветствовали мои работы, говорили, почему не знали такого художника, и от этого мне было грустно, по сути широкий зритель так и не узнал меня. Что меня ободрило и укрепило во мне веру в себя — это сравнение с другими художниками. Особенно после посещения Третьяковской галереи. Я почувствовал себя еще более уверенным. Сравнивая портрет Достоевского работы Перова с моим Достоевским, я понял, что мой Достоевский имеет преимущества, как портрет гениального писателя. У Перова есть все — большой человек, интеллигент. Но точка зрения — немного сверху — уничтожено ощущение большого человека».
Справедливости ради надо сказать, что в конце 90-х Теряев, уже будучи на пенсии, все-таки принимал участие в зарубежных выставках — из серии «Русские идут», которые ростовские художники одно время регулярно проводили в Германии. По словам организаторов, его картины украшали кабинет будущего канцлера Германии Герхарда Шредера в его бытность премьер-министром земли Нижняя Саксония. Перевез ли он работы Теряева в Берлин, став канцлером, неизвестно. Всего в Германии было продано порядка двух десятков работ Теряева — в среднем по 200 долларов за единицу. Для него это были очень большие деньги. Деньги
Теряеву были нужны — парализованная жена и приемный сын. «Как я стал художником».
Тимофей Теряев родился 3 августа 1919 года в селе Галич Орловской области. В 1921 году семья Теряевых из Галича переехала в Новочеркасск.
— Мать была домохозяйкой, довольно суровой женщиной, — рассказывал мне Тимофей Федорович. — О на хотела, чтобы я учился грамоте, но рисовать не разрешала, отнимала карандаши. У отца никакого образования не было, но по сути своей он был художником, мастерил игрушки. Затем сам научился изготавливать баяны. С их помощью наша семья некоторое время сводила концы с концами. В 1921 году отец умер от холеры.


Из воспоминаний Теряева:
«Хочу вспомнить, как я жил и как я стал большим художником. Сколько себя помню, я всегда рисовал, и в этом помогали окружающие меня...
Мне пять лет, мы живем на квартире: мама, моя сестра Клавдия, брат Костя и я. У хозяев большая семья: один из сыновей — сапожник, он же рецидивист, не раз преследовал своего отца с ножом, сидел уже в тюрьме. Но ко мне относился тепло. Когда я приходил к нему, он обычно работал, встречал меня приветливо, ставил большой картон, давал в руки карандаш и просил, чтобы я нарисовал лошадь или еще что-нибудь. Звали его Ваней, он был хорошо сложен, с красивым лицом.
Другой человек, который «помогал» мне в развитии рисования, был портной, крупный мужчина, пьяница — отец большой семьи. Я помню его, сидящим на огромном верстаке. Это был веселый человек, и встречал всегда добрыми словами.
Что помогало мне, так это большая любовь к книгам. Во втором классе я уже читал и очень хорошо. Помню книжку «Последний выстрел» — о сибирских охотниках. А читал я ее еще в 6 лет...
Во втором классе был у меня очень хороший учитель — М ихаил Иванович. Светлый, худощавый, очень нервный человек, но отзывчивый и добрый. Он также старался развить мои способности к рисованию. Одно время я работал молотобойцем. Потом попал в ученики к художнику Токареву. Он взял меня шрифтером, оформлять рекламные щиты для кинотеатра.
Затем Токарев уехал учиться — сначала в Ростов, затем в Ленинград. А я остался и за шрифтера, и за художника. Из Ростова приехала тарификационная комиссия и тарифицировала меня, я хорошо писал шрифты и очень похоже копировал портреты вождей. В 1939 году меня призвали в армию, в погранвойска. В Армении меня уже ждали как художника. Когда спустя два года началась война, всех, кто служил со мной, забрали на фронт. За ночь до моей отправки пришел комиссар, сказал, что художник все равно нужен. И меня оставили».
Сарьян.
Когда война закончилась, Теряев остался в Армении на сверхсрочной службе в управлении погранвойсками. И тут судьба сделала Тимофею Федоровичу щедрый подарок. Если бы не Мартирос Сарьян, скорее всего служить бы Теряеву в погранвойсках до самой пенсии.
Из воспоминаний Теряева:
«В пятидесятых годах служил я в пограничных войсках, работал художником в управлении клуба. Там был ансамбль песни и пляски, и в этот ансамбль ходил студент, звали его Роберт, очень симпатичный молодой человек.
В свободное время я рисовал ребят из ансамбля, Роберт с интересом присматривался и однажды заявил, что хочет познакомить меня с Сарьяном. Я отказался. НоРоберт настаивал, и я в конце концов уступил.
В один прекрасный день он сказал, что меня будут ждать, и я пошел. У калитки меня встретил сын Сарьяна.
Время было послеобеденное. Сарьян принял меня не совсем ласково, мне очень захотелось уйти. Он сухо пригласил меня в мастерскую.
Когда я стал показывать свои рисунки, М. Сарьяна как подменили, он стал очень добрым, в его глазах светился свет, он обласкал меня. Я был наверху блаженства. Он говорил, что я художник без всякой скидки на самодеятельность, стал показывать мне свои работы...
Когда Сарьян вышел позвонить, студент-скульптор, который присутствовал при нашей встрече, спросил, нравятся ли мне работы, я по незнанию и глупости сказал «нет», а он мне ответил, что ему тоже не нравятся. Я очень часто думаю, что я был невежда, а студент учился на пятом курсе.
...Когда М. Сарьян вручил мне письмо для директора театрального института, я даже как-то не подумал о его содержании, хотя письмо было в раскрытом конверте. Я домой не шел, а летел. По дороге встретил Епрема Савояна — хорошего художника и человека. Я поделился с ним радостью и рассказал о письме. Он сказал: «Давай прочту».
Я спросил, а будет ли это хорошо. Он ответил, что письмо не запечатано — это значит, его можно прочитать. Я согласился. Он прочитал и стал восхищенно говорить, как Сарьян восхвалял меня....
...Когда я пришел к директору института, он довольно сурово спросил, что мне надо. Я сказал, что принес ему письмо от Сарьяна, он сразу изменился, предложил сесть и стал читать письмо. Я не оговорился, это было довольно большое послание — в полторы или в две страницы. Сказал, чтобы я показал рисунки.
Я очень волновался, но рисунки произвели на него большое впечатление. Кабинет был большой и в глубине сидел человек. Директор сказал ему: «Шато, иди, посмотри, очень здорово». Это был мой будущий учитель Шатис Аветисович Шакарян — прекрасный художник и человек, царствие ему небесное.
Мне было больше тридцати, когда я стал студентом... Учение было для меня очень тяжелым испытанием. Я много рисовал с натуры до поступления на учебу, но это были такие беглые зарисовки, больше суммарного впечатления, но далекие от изучения, а сейчас мне пришлось попотеть.
Однажды, я уже учился, по институту прошел слух — «приедет Сарьян».
Мы все выстроились в вестибюле, мне было интересно, вспомнит ли меня Сарьян. Он вошел и сразу же подошел ко мне, спросил, как я учусь, нравится ли мне учиться... Я очень обрадовался, а ребята мне очень завидовали. Весь день для меня был праздником. Это была моя вторая встреча с Сарьяном.
Третья встреча произоша в старой мечети, которая была переделана под выставочный зал. Была защита диплома, и, естественно, все пошли на защиту. М. Сарьян сидел один, я подошел к нему и поздоровался. Он пригласил меня сесть рядом и стал расспрашивать, как я учусь. К нам подошел преподаватель Амаяк Аветисян и стал возносить мои успехи в учебе и особенно в живописи, на что Сарьян ему сказал: «Амаяк, пойди закрой дверь, а то сквозит». Мне было очень обидно за моего преподавателя, и я сказал, что сбегаю, закрою сам. На что Сарьян сказал: «А ты посиди». Я до сих пор не знаю, сон ли это? Почему так поступил Сарьян? Я не мог его тогда судить, и до сих пор я остаюсь в недоумении.
Ребята-студенты часто обращались к Сарьяну, особенно относительно стипендии, и Сарьян часто им помогал. Я никогда не обращался, хотя и имел возможность, как к своему наставнику.
Для меня рекомендация Сарьяна сыграла ту роль в моей жизни, к который я стремился. Вот сейчас на склоне лет я хочу сказать в адрес великого художника, что я бесконечно горжусь, что такой человек сыграл такую роль в моей жизни.
В 1958 году я закончил учебу в институте и пошел к Сарьяну как бы отчитаться. Он стал внимательно смотреть мои этюды, хвалил меня. «Знаешь, — сказал, — очень оригинально».
Во время последней встречи Сарьян сказал, что не знает, кто я такой. Художник Драмнян, присутствовавший при этом, очень рассердился и стал доказывать, кто я. После этого Сарьян сказал: «Если он художник, то пусть покажет свои работы». Я понял, что у Сарьяна склероз в сильной форме. Это была моя последняя встреча с великим художником».


Новый преподаватель.
По окончании института Теряев отправился в Горный Алтай — там открывали музыкальный театр и требовался художник (с графического отделения Тимофей перевелся на театральное).
По словам Теряева, туда понаехало много неудачников из Москвы и Ленинграда:
— И меня послали туда. Но по недоразумению не тарифицировали.
В 1958 году Теряев возвращается в Ереван, к жене — к тому времени он женился на Софье Константиновне Заеркиной, медсестре из военного госпиталя, выходившей его после воспаления легких.
В 59-м художник с женой переезжают в Ростовскую область.
— Я приехал в Ростов, в отдел культуры, и мне как театральному художнику дали направление в Цимлянский народный театр. Там я познакомился с местными художниками — выпускниками училища имени Грекова, и они мне посоветовали устроиться преподавателем в РХУ. Ведь у меня было высшее образование. 1 сентября 1959 года я впервые вошел в класс, — рассказывал Теряев.
— Я поступил в училище в 1978 году, — вспоминает Авдей Тер-Оганьян. — В училище было стойкое мнение, что там два есть преподавателя — Герман Михайлов и Тимофей Теряев. Два по-настоящему крутых преподавателя. Герман Павлович — аккуратист, интеллигент, по слухам, ученик Филонова и консерватор. Он меня в конце концов из училища и выгнал. А Теряев — простой, откровенный, брутальный человек. Прямой, грубый и жесткий. Теряев был художником номер один в Ростове, это признавали все. Даже самые продажные художники. Студенты его уважали и боялись. Как мы познакомились? Он пригласил меня написать мой портрет. Он любил рисовать студентов. Поймал меня в коридоре и говорит:
«Ну, ты приходи ко мне в этом свитере». Я был польщен. Он писал быстро — в один прием или в несколько. Рисовал четыре часа. Потом сказал: «Все, ничего не получается». Портрет не состоялся, но я спросил: «Можно я к вам буду приходить?» Он ценил внимание, но встречал строго: «Чо надо?» Веселухи не было. Спрашивал: «Что скажешь?» Это тоже было испытанием, серьезным общением. Ходили без чая.
На сухую...
О «деспотизме» нового преподавателя ходили легенды.
— Легенды эти обоснованы. Я не стеснялся в выражениях, — рассказывал Тимофей Теряев. — Помню, тогда председателем Союза художников Ростовской области был Виктор Григорьевич Лень, а сынок его у нас учился. Однажды смотрю — он заходит в класс с сигаретой. Я его схватил и выкинул в коридор. Ведь я одно время работал молотобойцем. Плевал я, что это сын Леня... Другого нерадивого студента с моей помощью выгнали из училища. Он сам не учился и другим не давал. Сначала я просил комсомольцев как-то на него воздействовать. Перед ним даже поставили условие — или ты уходишь из училища, или из комсомола. Он выбрал комсомол...
— Когда он приглашал к себе в мастерскую — это было как приглашение на Голгофу, — вспоминает Валерий Резанов. — Помню, он написал Андрея Рублева. Я посмотрел. Он: «Ну как?» — «Смущает розовый фон. А Рублев жил в тяжелое смутное время. Мечтал о мире, согласии. А у вас парфюмерный фон». Он закричал на меня и выгнал. А через несколько дней зовет, зайди посмотри, мол, фон переписал. Это был интеллигентный человек, очень начитанный, добрый. Жесткость была его защитой. Он мог вырвать у студента холст и выбросить его. Если студент сделал не то, что нужно. Но я помню, что когда — в девяностые — были миллионы, он миллион дал художнику Алабашу, который жил в нищете. Чтобы тот заплатил за квартиру.
Кстати, о Рублеве.
— А ты что, был знаком с Андреем Рублевым или Достоевским? Зачем же ты их рисуешь? — спрашивали Теряева коллеги.
— А вы что, общались с Хрущевым? Чего же вы его писали? — отвечал Теряев.

На пенсии.
— Я преподавал в РХУ 22 года, пока не поругался с директором. А тот меня не тарифицировал. Тогда я очень обиделся и ушел из училища. Но сейчас я бесконечно благодарен директору. Наконец-то я стал работать для себя. Ведь когда я преподавал, у меня на это просто не было времени, — рассказывал мне в 1996 году Теряев. — Я нарисовал мало картин. Чуть больше тысячи. Многие уничтожил, сейчас об этом жалею. Многие «записал» — не было чистого холста...
— Он был неразговорчивый человек, и, может быть, поэтому у него не состоялась преподавательская жизнь. На пенсии он развернулся. Посвятил себя живописи. В мастерских, где я часто бывал, атмосфера была развеселая, там все бухали, а Теряев работал, — вспоминает Авдей Тер-Оганьян. — О ни только с Германом Михайловым дружили, а ко всей художественной тусовке он относился достаточно жестко, мол, все это говно. Наверное, он многих обидел. Он не был антисоветчиком. Он бы человеком, который, как в советских фильмах, всегда говорит правду. «Вот этот ничего не делает, бухает», — мог сказать. Настоящий мужик. Не знаю, конечно, как к нему относились бонзы. Я с ними вообще не пересекался.
По словам Теряева, он по многу раз переделывал свои работы:
«Стремлюсь к совершенству в донесении своей мысли. Некоторые думают, что совершенство — это Шилов. Но он не может остановиться в проработке деталей. Вы будете смеяться, если я скажу, что мне нравится Шишкин. Но я люблю его «Рожь». Она монументальна, русская по характеру. Меня не столько волнует форма, сколько то, что хотел сказать художник. Я люблю Пикассо. Но не всего. «Герника» — совершенно пустая работа. Но мне нравится дух Пикассо. Гадкий, низкий человек никогда не сможет создать великого произведения. Меня трогают многие художники, у которых есть ощущение правды жизни. Артистизм — не главное. Я обожаю Рембрандта, но он пренебрегал историей. Даная — это девочка, которую отец запер в башню. Отцу предсказали, что его внук его же и уничтожит. А у Рембрандта Даная — это зрелая баба, которая ждет любовника. Он здорово нарисовал ей туфли. Когда я узнал подлинную историю этой девочки, меня все это возмутило. Видимо, человек, который вылил кислоту на Данаю, боролся за истину.»
Однажды Теряев для ГПЗ -10 написал портрет передовика производства. Директор завода отказался платить: «Мазня!» Этот случай разбирала конфликтная комиссия.
— Он творчески относился к работе, — вспоминает этот случай Валерий Резанов. — В этом была его беда. А надо было нос в нос, глаз в глаз. Надо было скопировать маску.

Верхняя палата.
Рассказывает Алла Сидорина, заместитель директора Ростовского областного краеведческого музея.
— Помню, как мы беседовали с Тимофеем Федоровичем, чай пили. Это был конец 90-х. Он сказал, что хочет написать мой портрет. Сидящей, в красной кофте, юбке... Когда Теряев работал, он практически ничего не говорил... Девочка Оля натягивала холсты. Для него это было уже очень сложно — он рисовал дрожащими руками. Первая картина заняла дня три-четыре... Кроме нее, есть мой портрет, он называется «Алла». Была и третья работа — «Обнаженная». Он мне подарил второй портрет с дарственной надписью.
— В последние годы у него дрожали руки — болезнь Паркинсона. Он брал кисть и как с мечом шел на холст. Холст едва не рвался. Работал как зверь, — вспоминает Валерий Резанов. — Свою последнюю работу он написал страшную — распятие. Видны только прибитые к кресту ноги, и у ног грызутся собаки. «Голгофа» называется.
«Голгофу» Теряев рисовал, стоя на коленях.
В середине марта — после неприятного разговора с пасынком — Теряеву стало плохо. У него носом пошла кровь, и его определили в ЛОР -отделение ЦГБ. У его кровати постоянно дежурила муза художника — Инна Шарко.
По словам Валерия Резанова, с этой женщиной он дружил не один десяток лет:
— Он писал ее много раз. Очень красивая женщина.
— А нас не интересовала его личная жизнь, — вспоминает Авдей Тер-Оганьян. — Мы видели, что он часто рисует одну и ту же женщину. — Потом я уже догадался, что это была Инна.
— Если Софа будет спрашивать, скажешь, что я поехал на этюды в Мелиховку, — рассказывает Валерий Резанов, — а сам уезжал куда-то дня на три. Потом, смотрю, привез ведро черешен. Объяснял: «Я к женщине ездил». Его жена Софа была старенькой, больной, на десять лет старше его. Тимофей Федорович говорил мне: «Что делать, я полон сил, хочу нормально жить».
По словам Резанова, он с друзьями пришел к Теряеву 19 марта 2001 года, за день до смерти:
— Тимофей Федорович говорил только об искусстве. Просил, чтобы мы поговорили с врачами. Говорил, что врачи хотят переселить его этажом выше, в другую палату, а он этого не хотел. На меня накричал, потому что я сказал, что «Огонек» стал паршивым журналом — это еще при Коротиче было. Я сказал, что Мусоргскому 150 лет, а статьи о нем нет. Теряев разозлился: «Во-первых, не Мусорский а МусорГский!» Потом он попросил, чтобы на следующий день ему принесли пейзаж «После дождя» Ван Гога... Мы пошли к врачам, сказали, что Тимофей Федорович просит не переселять его наверх. На следующий день приходим, а он умер — его все-таки переселили в верхнюю палату. Инсульт — и все.
Завещания Тимофей Федорович не написал — умирать он не собирался. Часть его картин — несколько десятков — бесследно исчезла. Говорят, что сгорела. А может быть, хозяева теряевских работ ждут, когда картины вырастут в цене.
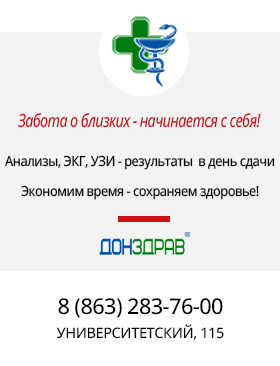

 Перейти в архив
Перейти в архив