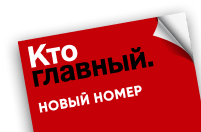
Кто такой.
Леонид Григорьевич Григорьян родился 27 декабря 1929 года в Ростове-на-Дону, умер 30 августа 2010 года в Ростове-на-Дону. Поэт, переводчик современной французской прозы (Сартр, Камю) и армянской поэзии.
Отец, Григорий Ильич Григорьян, был экономистом. Репрессирован в 1937 году. Мать работала библиотекарем. В детстве пережил в Ростове оба периода немецкой оккупации.
С 1948 по 1953 годы учился на романо-германском отделении историко-филологического факультета РГУ. Преподавал латынь в Ростовском медицинском институте. Первая подборка стихов была опубликована, когда автору исполнилось 37 лет. Рекомендации для вступления в Союз писателей Леониду Григорьяну дали Фазиль Искандер, Давид Самойлов, Арсений Тарковский.
— Литературной жизни в Ростове никогда не было. Недавно я написал предисловие к книжке талантливой поэтессы Нины Огневой. Там я говорю, что знаю ростовский андерграунд и сам когда-то к нему принадлежал. Но не было в Ростове никогда никакого андерграунда. Если не считать, конечно, Калашникова, Жукова и Бондаревского. Как вообще можно считать себя поэтом, если ты современник Тарковского, Ахматовой. А уж явление Иосифа Бродского — подлинная «школа смирения»...
Вас интересуют шестидесятые годы в Ростове? Рассказывать похабные, пусть и смешные, истории нет смысла. Во всех городах они похожи. Это скорее примета возраста, а не времени...
Когда речь идет о шестидесятниках, у меня всякий раз возникает чувство протеста. Наверное, шестидесятники были в Москве, может быть, в Питере. В Ростове я ни о ком не мог бы сказать — вот шестидесятник. Под этим термином, на мой взгляд, понимаются люди, которым глаза на советскую власть открыл XX съезд. До этого они жили как ангелы или идиоты, у которых не было ни зрения, ни ушей, ни мозгов. Евтушенко — шестидесятник. До съезда он ничего не понимал, не понимал ничего и после. Мой друг писатель Виталий Семин как-то встретился в ЦДЛ с Евтушенко, и тот поразил его своим заявлением, мол, он, Евтушенко, — последний коммунистический поэт планеты. Виталий выкатил глаза — такая лексика в нашей компании была не принята. Таким был и Вознесенский, хотя Евтушенко чем-то и посимпатичнее Андрея. И тот, и другой — необразованные и не очень умные, но Вознесенский кичливее и эгоистичнее. «Уберите Ленина с денег» — «Лонжюмо» — сколько он написал такого. Это лукавство — не такой уж он дурак. Просто он «вписывался» в систему. Когда мне говорят «шестидесятники», я представляю прохвоста Вознесенского, Карягина или Трифонова. Разные люди. Но «всем им XX съезд открыл глаза». Компания, с которой я водился в Ростове, была очень пестрой. Собирались обычно у меня дома. Как-то приехал ко мне из Еревана мой новый друг. «У вас уникальная компания, я таких никогда не видел. Все такие колоритные и разные», — удивился друг. И действительно, у нас было два физика, один терапевт, писатель, инженер и латинист. Что нас объединяло? Не знаю. Может быть, ненависть к советской власти. Ведь все мы жили с предощущением ареста. Все мы знали, что кончим у параши под нарами. И хотели лишь одного — сдохнуть по-человечески.
Если бы Сталин прожил еще несколько лет, посадили бы и меня, и всех остальных. Но нам повезло.
Мой дом всегда был открыт для гостей, поскольку сам я в гости ходить не люблю, а жил один. Самым близким моим другом был Виталий Семин. С ним мы познакомились задолго до того, как он начал писать. Мне даже в голову не приходило, что он станет писателем и так далеко пойдет. Так вот, Семин был марксистом — чего я на дух не принимал. Мы спорили, но никогда не ругались. Быть марксистом не значило обожать КПСС , даже наоборот. Виталий был серьезным человеком, читавшим философию, энциклопедистов, Гельвеция, — сейчас это читать невозможно, но тогда было интересно. Ни Бердяева, ни Шестова Семин, конечно, не знал. При всем своем марксизме это был человек, которому я доверял бесконечно...Попадали сюда и темные люди, но мы от них быстро избавлялись... Конечно, выпивали. Но не для того, чтобы напиться, — для общения. Покупали, как правило, самое дешевое. Я и сейчас если беру, то «Донское крепкое». Дешевле не бывает. Бедность была нормой. Если богатые где-то и были, то они скрывали свое богатство. А нам нужно было очень мало. Нет, ощущения бедности у нас не было. Было ощущение счастья. Утром я просыпался и думал: «Должно случиться что-то хорошее...»
...А потом Виталий стал российской знаменитостью, потом был скандал, статья в «Правде». Пять лет Семина не печатали. Жил он очень тяжело, питался плавлеными сырками — тогда это было самое дешевое блюдо. В партию он не вступал, комсомольцем не был. Я, кстати, тоже не был комсомольцем. Это произошло чисто случайно. То ли я не выучил устав, то ли еще что-то — точно уже не помню. Меня наказали и не приняли. А когда я поступил в университет, то сказал нашему комсоргу — славная такая была бабеха, деревенская: «Я не могу вступить в ВЛКСМ , потому что я верую в Бога». Она раскрыла рот и, между прочим, даже не донесла. Больше меня не трогали.
Был в нашей компании и Олег Тарасенко. 22 года он прожил во Франции, был сыном белого офицера, донского казака - дроздовца. Его отец эмигрировал во Францию, женился на донской казачке. Там и родился Олег. А потом все вдруг захотели вернуться. Ведь в России снова появились погоны, генералы, ССР победил в войне. Когда Дмитрий Тарасенко пришел в посольство, то так и написал: «Был пулеметчиком, освобождал Ростов в 20-е годы». Посол Богомолов все это зачеркнул и сказал: «Дмитрий Макеевич, родина вас простила, вас ждут». Естественно, Дмитрию Макеевичу сразу дали 25 лет. А не расстреляли лишь потому, что в 47-м отменили «вышку». Тарасенко отсидел 8 лет. Но тут околел Сталин, и Дмитрия Макеевича отпустили на свободу. Через два года он, конечно, умер.
Я не хочу сказать, что я такой умный и раньше всех прозрел. Но что должен был ощущать я, мальчик семи лет, у которого арестовали отца, а затем арестовали весь наш дом. Отец был экономистом, беспартийным. Взяли. Взяли кавалерийского комкора Фогеля, который жил над нами. Взяли фольклориста Корытко-Снитковского — его квартира была этажом ниже. Снитковский был поляком, а поляков брали поголовно. Взяли еврея Лаптина — секретаря какого-то райкома. Расстреляли. Потом взяли всех жен. Потом в интернат отправили всех детей. Напротив нас (район проспекта Семашко, ниже улицы Горького. — «Главный») был греческий квартал. Арестовали всех греков, потому что была разнарядка арестовать тысячу греческих националистов. Здесь же рядом был и китайский квартал. Китайцы в основном занимались стиркой. Масса детишек, женщин... Я отвлекаюсь, конечно. Но я хочу, чтобы было понятно — в жизни моей не было никаких иллюзий ни насчет Сталина, ни насчет Ленина, ни насчет революции. Мне повезло. Я был книгочеем, библиофилом. У меня были редкие книги, которые можно было купить на толкучке буквально по рублю. Толкучка долгие годы была там, где сейчас находится Дворец спорта. Раньше там были церковь, кладбище. В те годы я и прочел «Дни» Шульгина, «Записки жандарма» Спиридовича и, главное, пятитомник «Русская революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев»...
Был в нашей компании и инженер, искусствовед-любитель Марк Копшицер. У него вышло две книги из серии «Жизнь в искусстве»: «Серов» и «Мамонтов». В Союз писателей ему давали рекомендации Каверин, Чуковский, Залыгин. И его не приняли. Лебеденко (тогдашний руководитель ростовского отделения Союза писателей. — «Главный») сказал: «А что это он к нам поступает? Пишет о художниках? Так пусть и поступает в Союз художников». На что Владимир Фоменко, милейший человек, ему ответил: «А если бы, Петя, пришел Тургенев и принес «Записки охотника», ты бы его направил в союз охотников?» Я, например, поступал в Союз в 1978 году, у меня было четыре книжки и очень неслабые рекомендации — Самойлов, Тарковский, Искандер, Скребов, Союз писателей Армении. Но провалили... Семина, правда, приняли сразу. Но сколько из него потом выпили крови. Я помню, какие над ним устраивали судилища. Выступали Лебеденко, Гарнакерьян, Куликов. Я застал этих чудовищ.
Мне повезло. Помню, приехал в Ростов Александр Моисеевич Марьямов — член редколлегии «Нового мира». Виталий привел его ко мне, мы сидели выпивали, и Семин показал мои стихи. Марьямову стихи понравились, он отвез их в Москву. А Твардовский взял и подписал. Вкус у него был, конечно, ретроградный, Ахмадулину он не печатал. «Он торгует селедкой, а она — кружевами». Стихи мои были довольно слабые, хвастаться тут нечем. Но благодаря этой публикации в дальнейшем я просто вкладывал стихи в конверт и отсылал в Москву. Двенадцать раз меня печатали в «Звезде», десять раз — в «Новом мире»... Камю я перевел, еще когда он был запрещен. Для друзей. Но тут я увидел, что в «Иностранке» опубликовали «Постороннего» в переводе Норы Галь. И подумал, что наступил час Камю. Взял и отослал перевод в «Новый мир». Твардовский подписал мгновенно. Когда ему позвонили из «Художественной литературы» и сказали, что уже есть перевод Немчиновой, Твардовский ответил: «У нас свой переводчик, и перевод нас устраивает». Потом я перевел пьесы Камю, их напечатали в «Литературной Армении». Много переводил Сартра...
Конечно, в Москве все было ярче. Москва была богемистая. Утром я выходил из дома и не знал, в каком районе Москвы заночую. Лежа на полу или под столом. Юнна Мориц, с которой я тогда дружил, осуждала меня за эти эскапады. Говорила: «Я богему уважаю, но если это люди энциклопедические, а не просто хлещущие водку».
Имена многих из той компании вам ничего не скажут, а тех, кого я назову... Не обязательно мы с ними пьянствовали. Я знал, что Самойлов — это единственный человек, который не терял ума, когда выпивал. Напротив, он становился блестящим и совершенно очаровательным. Хорошо я знал и Окуджаву. Он бывал в Ростове, здесь, у меня в гостях. Мой хороший друг — Борис Чичибабин. Он со своей Лиличкой неделями жил у меня дома... Однажды Лиличка, инженер, была в командировке в Ростове, на вокзале купила мою первую книжку — «Перо», 1968 год. Она привезла ее в Харьков, где Чичибабин ее и прочитал. Как я сейчас понимаю, Бориса поразило то, что в книжке не было ни одного блядского красного стихотворения. У него же таких было очень много — «Красный галстук», «Рабочий и булыжник». Когда четыре года назад он приезжал в Ростов, то подписал мне свою последнюю книжку. Но я сказал ему, что у меня есть его старая, и я хочу, чтобы он подписал и ее. Боря побагровел и вывел: «С таким стыдом... я проклинаю это время...» У меня сохранилось много его писем, исписанных бисерным почерком, листов со стихами. Сто сонетов Лиличке. Петрарка!..
Очень интересным человеком была Юнна Мориц. Сколько лет мы с ней дружили! А потом так безобразно поссорились. Она была ужасно злая! И когда я это понял, решил перечитать ее стихи, которые очень любил. Я понял, что злость — это ее творческий моторчик. Жалко, что она злится на поэтов, которые выше ее, по крайней мере не ниже. Таких как Кушнер. У меня сохранилось около 50 писем Юнны. Есть письма Кушнера — автографы, ничего особенного. А Тарковский писал трактаты. У меня сохранилось восемь его писем. Но после встречи с Юнной я боялся заводить знакомства со своими кумирами. Зря, наверное. Жалею, что не познакомился ни с Тарковским, ни с Самойловым.
Я никогда не состоял ни в одном литературном кружке. Был у нас в Ростове такой хороший старичок — Вениамин Жак. К нему было приятно зайти, такой милый-премилый. Но заходить часто к нему не имело смысла — Вениамин Константинович был детским поэтом. Он мне говорил: «Это, Леня, мне нравится. Но третье четверостишье нужно сделать вторым, первое — восьмым, а восьмое — седьмым». В результате получался Жак. Он бы даже из Пушкина сделал Жака. Куда еще было ходить? Не к Гарнакерьяну же? У меня был товарищ — Леня Эпштейн.
Блестящий математик, поэт. Сейчас в Америке вышла книга его стихов... Леня был моложе всей нашей компании, но легко вписался в нее. Как-то к нему приехал его друг — Наум Ефремов — сейчас он публикуется под псевдонимом Наум Ним, в последней «Литературке» его книга есть в шорт-листе Букеровской премии. Это был очень славный оригинальный человек с немного лабильной психикой. Наум был родом из Витебска. И там на него обратил внимание местный КГБ. Он с друзьями печатал на ротаторе Оруэлла, «Доктора Живаго», «Котлован», «Большой террор». От греха подальше друзья посоветовали перебраться Науму в Новочеркасск — там Эпштейн преподавал математику в НПИ . Но и в Новочеркасске КГБ не сводил глаз с Ефремова. Тогда он переехал в Ростов, жил то у меня, то у других знакомых.
Устроился в мединститут в мастерскую по ремонту электронной аппаратуры. А потом Ефремов решил поехать на шабашку, и в комнате, которую он на тот момент снимал, КГБ провел обыск. Нашли запрещенную литературу. Подозревают, что донесла сестра его тогдашней сожительницы. Не обязательно. Наум никогда не скрывал своих взглядов. К примеру, «закадрит» какую-нибудь девицу, приведет к себе и не просто положит, а сначала перескажет ей «Архипелаг ГУЛ аг». А потом окажется, что это дочка секретаря горкома партии. Был такой случай. Короче говоря, Ефремова арестовали, провели обыск у Эпштейна — забрали Библию, «Доктора Живаго» и пишущую машинку. А меня вызвали в КГБ. Какой-то майор несколько часов сушил мне мозги. Я отвечал ему: «Ничего не знаю, ничего не представлял, считаю, что имеет место провокация». Майор возмутился: «Я вижу, вы не хотите нам помочь». Через некоторое время состоялся суд. Я был единственным свидетелем защиты. Ефремов получил 3 года, а для меня потребовали особого определения. Это значило — конец работе. Но судья сказал: «Не вижу основания». Потом выяснилось, что судья была моей студенткой — ведь я преподавал латынь и на юрфаке. Через некоторое время в газете «Молот» появился фельетон Евченко «Клеветник». И меня начали выгонять из мединститута, где я проработал 36 лет. В один день провели три собрания — кафедры, расширенное парткома-месткома и общее. Там я наслушался: «Пригрели змею... Столько лет...» Но наступали другие времена, и меня не уволили.
В 1975 году они сожгли тираж моей книжки. Но виноват в этом не КГБ, а братья-писатели. Они решили, что книжка антисоветская. «Накрутили» обком. Помню, выступал гнусный Тесля, потом — Бондаренко. Два года книга лежала, не продаваясь. А потом ее уничтожили как нераспроданную.
Чем хороша Москва, так это встречами. Меня часто соблазняли: меняйся, переезжай, тебе нужен воздух. Но я этого не сделал и не жалею. Москва мне страшно не нравится. Это Вавилон. Но там я познакомился с Надеждой Мандельштам. Есть у меня друг — Алеша Арене. Мама его была замужем за советским дипломатом. У дипломата был партийный псевдоним — Жан Арене. Его все считали французом, хотя он был еврей. Да что там все — он сам считал себя французом. Арене в свое время был вместе с Воровским, когда того застрелили в Швейцарии. Арене отстреливался, был ранен. Потом Жана направили торговым консулом в Лос-Анджелес. В 37-м году Сталин отозвал его назад. И хотя Арене понимал, что его ждет, все же приехал и был немедленно расстрелян. Его жену сослали, и в ссылке она познакомилась с Надеждой Яковлевной. Людмила Михайловна и Надежда Яковлевна дружили. Как-то мне мама Алеши и говорит: «А давайте поедем к Мандельштам». Поехали. В портфеле у меня был самиздатовский Мандельштам, отпечатанный на машинке. Говорила Надежда Яковлевна, как будто читала какую-то культурологическую статью — «Разговор о Данте», к примеру. Но любила и посплетничать... Мы сидели в кухне, и Людмила Михайловна Арене говорит: «Надя, посмотрите, как в Ростове издают Мандельштама». Я достал свой том. Надежда Яковлевна просмотрела книгу, нашла редкое стихотворение и поразилась: «А я считала его погибшим». Ко мне же это стихотворение попало следующим образом. В Ростове жил такой адвокат Ландсберг, горбун, маленького роста. Ландсберг дружил с Волошиным, Мандельштамом, у него было огромное количество писем, текстов. Потом он умер, и все его архивы пропали. Это стихотворение кто-то нашел у Ландсберга. А я переписал его себе. Надежда Яковлевна обрадовалась: «Надо выпить по этому поводу». У меня была с собой бутылка водки — правда, для других целей. Но мы ее выпили — пила Надежда Яковлевна очень лихо: «Две недели назад у нас был Вика Некрасов, так мы с ним пару бутылок выпили водки». Я был у Надежды Яковлевны два или три раза.
Вторая ее книга очень несправедливая. Даже меня она там умудрилась задеть. Не называя. Мол, подруга сказала, что с ней искал встречи один молодой поэт, и она согласилась его принять. Но я к ней не рвался... Мне было неприятно об этом читать — неблагодарная женщина. А как она написала о Тынянове!
Вот вы спрашиваете, что происходило в шестидесятые годы. Сейчас кажется, что в Ростове ничего и не было. Но вдруг приезжали Окуджава и Аксенов, и начиналась феерия. Помню 68-й год — юбилей комсомола. Наш идиот-парторг вдруг вызывает ребят и предлагает: «Вот юбилей — позовите кого-нибудь». — «Можно Евтушенко?» — «Че-то слышал. Нет, Евтушенко не надо». — «Тогда Рождественского?» — «Не надо». — «Может быть, Аксенова?» — «Кто это такой?» — «Да врач». — «Комсомольский писатель?» — «Комсомольский». — «Кого еще?» Предложили поэта-песенника Окуджаву. Потом Василий Аксенов рассказал, что ему нужно было найти «стиляжную» натуру, и он отправился на ее поиски в Ростов — здесь он никогда не был, — он ее нашел в местном коктейль-холле. Булату Ростов нравился, сюда он отправился с удовольствием... И вот в институте повесили объявление: «Выступают прозаик Аксенов и поэт Окуджава». Как только объявление повесили, парторга вызвали в КГБ: «Ты что, блядь такая, наделал?» А что теперь поделаешь? Объявление, конечно, порвали. Потом стали искать, кто его написал, кто первым сказал: «Окуджава, Аксенов». На концерт поэт и прозаик опоздали. Оказалось, что на их пути устроили какой-то кросс — мешали добраться. Когда в зале уже было полным-полно народу, вышел парторг и сказал: «Ну вот, сейчас перед вами выступят поэт Окуджава и так называемый прозаик Аксенов. Призываю дать им достойный отпор». В этот момент открывается дверь и появляются Булат с Аксеновым. Окуджава потом сказал, что по мордам сидящих впереди — а впереди сидело начальство — он понял, что проведена работа, и решил: «Сейчас я им врежу». Концерт длился два часа. Песни, ответы на вопросы. «Как вы относитесь к событиям в Чехословакии?» — поинтересовался кто-то из зала. «Считаю, что это трагическая ошибка», — ответил Булат. Кто-то крикнул на весь зал: «Позор». Кому «позор» — непонятно...
Какой-то мальчик записывал концерт на магнитофон. Его вычислили и потащили в партком. Стали рвать ленту. Но мальчик был нервным, схватил графин и запустил им в парторга. Комедия! Потом они пытались смонтировать ленту, чтобы в ней появился «отпор». Но ничего не вышло. Тогда они написали донос в ЦК ВЛКСМ и в журнал «Юность».
Когда зимой я поехал в Москву, мы встретились с Булатом в ЦДЛ. Он хохотал, а потом попросил меня, чтобы я ничего не говорил парторгу — ведь они добились своего, книжку Булата выкинули из плана «Молодой гвардии». «Скажи им, что все хорошо, тем более что завтра мне ехать в Австрию».
Жить можно везде. Жил же здесь Семин. Просто нужно сказать себе, что писательство — это дело кустарное. И все. И оставаться кустарем. Печататься сегодня трудно. Все приходится делать за свои деньги. Заказов на переводы у меня сегодня нет. Стихи? Резерв закончился. Я ловлю себя на том, что начал повторяться. Для стихов нужна жизнь. А моя жизнь бессобытийная. Я все меньше читаю, все меньше вещей меня интересуют. Биология. Берберова пишет: «Старость — это когда все высыхает». Высыхают не только гениталии, но и сосуды. Старость — это ощущение сухости. Но, может быть, мне еще удастся как-то встряхнуться.
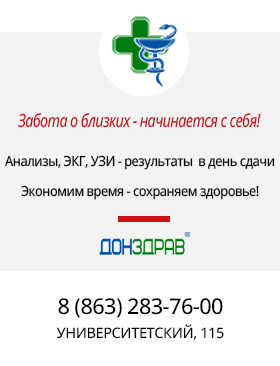

 Перейти в архив
Перейти в архив