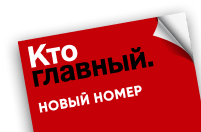
Кто такой.
Родился 8 декабря 1855 года в Вологодской губернии, умер 1 октября 1935 года в Москве. Писатель, журналист. В августе 1865 года Гиляровский поступил в первый класс Вологодской гимназии и в первом же классе остался на второй год. В гимназии Владимир Алексеевич начал писать стихи и эпиграммы на учителей («пакости на наставников»). В июне 1871 года после неудачного экзамена Гиляровский без паспорта и денег сбежал из дома. В Ярославле поступил работать бурлаком. В 1873 году был направлен в Московское юнкерское училище, где проучился около месяца, после был отчислен в полк за нарушение дисциплины. Работал истопником в Ярославле, пожарным, на рыбных промыслах, в Царицыне нанялся табунщиком, в Ростове-на-Дону был наездником в цирке. В 1875 году начал работать актером в театре. С началом русско-турецкой войны снова пошел в армию вольноопределяющимся, служил на Кавказе, был награжден медалями и орденом святого Георгия IV степени.
В 1881 году Владимир Алексеевич поселился в Москве и работал в театре А. А. Бренко. Осенью 1881 года бросил театр и занялся литературой и журналистикой. В 1887 году Гиляровский подготовил для печати свою книгу «Трущобные люди». Книга была сожжена по цензурным соображениям.
Публикуемые здесь воспоминания Гиляровского относятся к 1894 году, когда Владимир Алексеевич работал в «Русских ведомостях» (тогдашний аналог нынешней «Новой газеты»). Для хохочущего казака в белой папахе и красной свитке на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» позировал Гиляровский.
Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса — и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось — случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто...
Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.
Едва я доел последнее яйцо, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».
— Владимир Алексеевич, где путь держите?
Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, — это считается неприличным, допросом каким-то, а так, как-нибудь, стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением.
«Куда идешь?» — спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.
И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут: «Закудыкал, на свою бы тебе голову!»
Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается полюбопытствовать: «Где идет (или едете)?»
В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.
— Что же делать?
— Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажет, что делать. А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодняшный самодав — пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, — отец сам давит... Вот уж выморозки так выморозки — ум проглотишь. Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!
...Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», которое произвело впечатление на В. М. Соболевского и М. А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:
— Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!
И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.
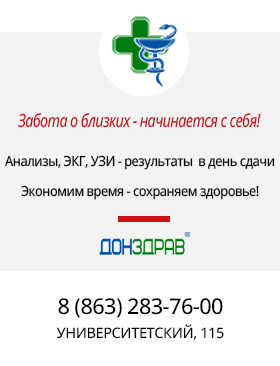

 Перейти в архив
Перейти в архив