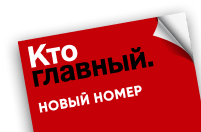
Пристегнулись, разогнались, оторвались, взмыли.
В иврите нет слова «нравится». Есть идиома «находить радость в моих глазах». Полеты в Тель-Авив находят радость в моих глазах, ушах, носу — во всех моих внутренностях. Все ликует внутри.
Всю жизнь, это ж надо, всю жизнь писал слева направо. Теперь все буду делать наоборот. Да, все делал не так. Не в том направлении. Подо мной — облака. Надо мной — солнце. Я между солнцем и облаками — непривычная дислокация.
Обед. Аккуратно — аппетитно — аскетично. Мажу — режу — жую — вкусно. Смотрю на часы. Время московское. Мои японские часы сверяются по Москве. Какой позор. Между солнцем и облаками время тоже московское. Cменить все — от носков до гражданства — и остаться с московским временем? Смело и решительно перевожу стрелки на час назад. Вместе с нами летит муха. Русская муха, перебежчица и диссидентка. Счастливой тебе, муха, абсорбции. Израильское время — семь сорок. Израиль сверху желтый. Подлизывается к берегу Средиземное море. Пальмы, песочек, пляж. Парим над страной обетованной. Двумя ногами над Израилем. Веками никто в длинном списке моей родословной не зависал своей задницей над этим берегом так низко. Над этой землей, по которой ходили в сандалиях мои далекие предки, купались в этом море, воевали, возводили храмы, молились, любили и умирали в этой земле, вернее, в этом песке, голо-вой к Иерусалиму.
В каком-то из начальных классов мы заполняли первые в своей жизни анкеты — естественно, с «пятым» пунктом. К тому времени я уже знал свою национальность. А сосед мой по парте Вася Дрожко своей национальности не знал.
— Какая у меня национальность?
— Пиши «кугут», — сказал я. Он засомневался, заглянул в мою анкету, прочитал «еврей». Поколебался немного и вывел в графе «национальность» «кугут». Решил, кугут лучше. Как в том анекдоте: «Армяне лучше, чем грузины». — «Чем?». — «Чем грузины».
«Просьба пристегнуть ремни». Пустыня Негев под крылом ТУ-154. Такой форшмак!
Служба безопасности. Чемоданы, руки, головы, шум-гам. Аэропорт имени Бен-Гуриона. Тель-Авив.
Родственник мой Вова, жена его Марина, мать ее Алла. Сяду вам на шею. Посижу немножко, поболтаю ножками, и улечу на свою доисторическую родину, потому как там ждут меня сильно. Потому как должен я ответить на нелегкий вопрос: ехать или не ехать? Я сказал: лучше один раз уехать, чем сто раз услышать: «У нас есть только два варианта: уехать или остаться. Оба они плохие».
Забегая вперед: что меня больше всего поразило в Израиле, так это тараканы. Они там летают. Как вертолеты службы безопасности, огромные и страшные. Правда, как мне говорили, в Африке есть тараканы величиной с ворону. Из-за них даже случаются аварии на дорогах. Человек, рассказывавший мне об этом, сам видел, как один таракан сбил велосипедиста где-то в Дар-эс-Саламе.
Да чего только не рассказывают люди! Какой-то рабби то ли из Бней-Брака, то ли еще откуда, где живут то ли хасиды, то ли хабадники, которые зимой и летом носят длинные черные сюртуки и широкополые шляпы, из-под которых свисают пружинки немытых пейсов, предрек, что от ракет Хусейна погибнут два израильтянина. Так оно, между прочим, и вышло. Как только Вова, жена его Марина и мать Алла приземлились в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, так и посыпались на Израиль советские ракеты, запущенные из Ирака. Из всех достопримечательностей Израиля прежде всего они познакомились с бомбоубежищем. А первой их покупкой была клейкая лента для герметизации помещений на случай химической атаки. Слава Богу, все быстро закончилось, и погибли только два человека, как и предсказывал рабби, то ли из Бней-Брака, то ли еще откуда.
Как-то взял я карту Тель-Авива и отправился в этот самый Бней-Брак.
Мимо Рамат-Гана, по улице Жаботински, прямиком в Бней-Брак. И чем дальше по Бней-Браку, тем меньше людей в нормальной человеческой одежде — шортах и майках, а все больше в черных сюртуках. Женщины — в платьях с длинными рукавами и в париках, потому что вид натуральных волос пробуждает в мужчинах похоть. Женщины, надо вам заметить, хоть с волосами, хоть совсем лысые, не то чтобы похоть, а даже думать противно. И детей видимо-невидимо. Все в ермолках и очках и тоже с пейсами. А в очках потому, что качаются при молитве над Талмудом и зрение портят. А чем больше детей — тем лучше. Это у них «мицва» называется — богоугодное дело. И я посреди этого мрачного средневековья оказался один из тех, кто в шортах. Хожу, брожу, любопытствую.
В эпицентре религиозного ортодоксизма купил себе мороженое за три шекеля. Заглядываю в лавки: меноры, магендовиды, всякие религиозные излишества. И тут посреди улицы вижу двух мужчин. В обычной одежде. Стоят, беседуют, матерятся. По-русски, конечно. В этом районе, в Бней-Браке, нормальный человек жить не станет, если только он не страшно верующий, поэтому квартиры тут дешевые. И они, по всему видно, тут живут, эти двое мужиков, на халяву. И по всему видно, что они даже не евреи, а скорее всего русские. Они стоят, матерятся посреди Бней-Брака, заселенного людьми, посвятившими себя Богу, исполняющими шестьсот с чем-то его заповедей, на что уходит практически вся их жизнь, стоят посреди всего этого и матерятся, как если бы стояли посреди Крещатика или где-нибудь на улице Энгельса в Ростове-на-Дону. Просто дух захватывает. Какие там масоны, какой там заговор! Я подхожу и спрашиваю, как пройти на улицу Жаботински, хотя и сам прекрасно знаю дорогу. Только лишь для того, чтобы услышать: «Дык ну ё.., вот же ж прямо!».
Или вот лето. Или вот солнце. Вот белые дома и белые занавески на окнах, и белая пластмасса столов и стульев в кафе, и у всех жар. У моря — температура воздуха, у воздуха — температура моря. Кажется, что все плавится от жары и течет, только хасиды в черных сюртуках и черных шляпах, как негативы, на общем позитивном фоне... «И что, тут лучше?» — спрашиваешь себя. Ну да, конечно. Только вот язва обострилась, то ли от перемены климата, то ли от солнечной радиации, то ли от нервного напряжения.
Я шел в Яффо и думал: вот у меня нет денег даже на автобус, я могу подорваться на мине, я не могу познакомиться с красивой израильской девушкой, потому что не знаю иврита, а что такое для филолога объясняться с женщиной жестами. Но даже если вдруг как-то сумею, выяснится, что не обрезанный.
Он хотел увидеть океан. Он настолько сильно хотел, что уехал, чтобы посмотреть. Он его там увидел и даже пару раз искупался. Он написал мне письмо на многих страницах про тот океан. Он ему не понравился. «Вода горячая, — писал он, — рыба плавает уже вареная, а ближе к берегу — жареная». Ему совсем не понравился океан. Он успокоился. Он теперь там живет. Или вот еще. Он был сильно увлечен иудаизмом. Ходил в синагогу, молился. Не ел мясного с молочным, соблюдал субботу, читал Тору. Осуществление мечты. Он уехал. Улетел. В Израиль. Сейчас антисемит. Посещает русскую православную церковь. Знает всех монахинь по именам. Или вот. Он ее очень любил. Она его тоже. Они встречались девять лет — в силу разных причин, и поженились. Развелись через три месяца — в силу других разных причин. Движение — все, конечная цель — ничто.
Я был на Первом съезде еврейских организаций и общин в Москве, в киноцентре на Баррикадной. К открытию подоспели ходоки из общества «Память». Они держали плакаты: «Евреи, убирайтесь в Израиль!». На следующий день подошли московские студенты-арабы из Палестины с плакатом: «Евреи! Убирайтесь из Израиля!». И было совершенно непонятно, куда же деваться?
Вайль и Генис писали: «Америка — это бодрая смесь индейцев, мустангов и ковбоев. Здоровый коктейль из Мерилин Монро и Генри Форда». Черт его знает, мог ли быть здоровый коктейль из Голды Меир и Менахема Бегина? А что до бодрых смесей, то их достаточно было в истории еврейства, чтобы принять наконец-таки какого-нибудь успокоительного. Мир устал от бодрых еврейских смесей. Кажется, в Израиле это поняли. Говорят, люди здесь рождаются очень уставшими, поэтому всю жизнь отдыхают. Ну вот и ладушки. Если бы еще это понимали арабы...
И все-таки я бы никогда не поехал в Америку. Потому что устал от просторов. Хочу жить в маленькой теплой стране, как моя кухня в однокомнатной российской квартире. Я могу поставить чайник на печку, залезть в холодильник и включить радио, не слезая со стула. Я хочу жить в такой стране, где все рядом. Таков мой кухонный менталитет (одно из любимых в Израиле слов). Что такое израильская ментальность, я, правда, так и не понял. Наверное, что-то очень еврейское и наверняка очень кошерное. Если бывает кошерный кофе и кошерное электричество, так уж точно есть кошерная ментальность.
Что приятно удивляет в Израиле — не возникает ощущения, будто вокруг одни евреи. Чувство, которое в России меня буквально не покидало. Нет, в Израиле такого ощущения, что кругом одни евреи, нет. Более того, тебя здесь тоже не считают евреем. Один думает, что настоящие евреи живут в Эфиопии. Другой уверен на все сто, что всем евреям евреи из Марокко. И так далее.
На заводе, где работает Вова, трудится интернациональный еврейский коллектив: марокканцы, эфиопы, ашкенази... Вова всю жизнь ел бутерброды с сыром и колбасой, и в Израиле он не изменяет своим привычкам. Вова всенародно кладет в питу сыр и колбасу. Марокканцы кричат ему: «Ло кошер!» («Не кошерно!»). Нельзя есть молочное и мясное вместе. Вова отвечает в лучших традициях отечественной публицистики: «Ел, ем и буду есть!». Марокканцы кричат ему: «Лех ле Руссия!» («Убирайся в Россию!»). Вова им: «Лех ле Марокко!». И так каждый день.
Евреями не рождаются. Евреями становятся. Вова, видимо, евреем не станет уже никогда.
Мы едем в его новенькой «Сузуки».
— Глянь, — говорит он, тыча пальцем в идущего по тротуару негра в национальной эфиопской одежде.
— Глянь, глянь, — говорит Вова, хохоча, — еврей, мать его!
—...Сколько можно читать одно и то же? — говорит Вова. — Нет, ты мне скажи?
— Чего?
— Чего-чего! Тору! Всю жизнь читают одно и то же. Уже наизусть можно было выучить. Нет, читают. Каждый день, представляешь?
—...Кипа у них вместо партбилета, — говорит Вова. — Чуть выше начальника цеха — обязательно с кипой.
Вова считает, что Израиль — это та же Совдепия, только есть, что пожрать. Наверно, поэтому наши репатрианты упорно называют Израиль Израиловкой.
На счете в банке у Вовы минус две тысячи шекелей. Тем не менее он все время покупает что-то в кредит. Я говорю:
— Надо же возвращать!
— Это не мои проблемы, — говорит он.
— А чьи?
— Банка.
Может быть, это и называется израильской ментальностью.
Минусов в Израиле и правда много, и не только в банковских счетах. Начинать всем приходится не с нуля, как принято у нас говорить, а с минусов. С нуля начинает только младенец, не отягощенный необходимостью сравнивать, отучаться, переучиваться, перестраиваться, рефлексировать и ностальгировать.
Исключение составляет только одна старушка. Ей 90 лет. Дочь взяла ее с собой и вывезла в Израиль. Она уже год в Тель-Авиве. Бабушка нисколько не сомневается, что по-прежнему живет в Ростове-на-Дону.
Гуляя по Израилю, я искал какую-то внутреннюю атавистическую связь с этой землей или воздухом, или природой. Я и раньше замечал, что степные просторы не сильно греют мою душу. Более того, разные ковыли, амброзии и даже просто сено вызывают во мне аллергию. Свербит в носу, я чихаю, и в евстахиевых трубах наблюдается странный шум.
В Израиле действительно безопасно. Несмотря на то (или благодаря тому), что многие ходят с оружием. Гуляют с автоматами солдаты и девушки в военной форме. Вероятно, не очень удобно целоваться с автоматом за плечом, но больше никаких проблем. Эта безопасность на ночных улицах Тель-Авива нашего человека обескураживает. Потому что битье морды — всем известно — у нас, что простуда, или любовь, или голосование на выборах — с каждым случается. Причем бить вам будут не лицо, а именно морду. Или, скажем, харю, или рожу. Мой приятель, как напьется, бьет хлебальники.
Как сказал поэт, «лицом к лицу лица не увидать». То есть морду видать, а лица не видно. Оно иной раз бывает, что лицо, а присмотришься хорошенько — морда.
Подспудно, в глубине души или подсознания, мы (или многие из нас) хотим быть битыми. Когда в детстве я надевал трусы или майку шиворот-навыворот, мама говорила: «Будешь бит». Сейчас мы живем с ощущением, что на нас все — от трусов до пальто — наизнанку. Не решаясь взять ответственность на себя, ждем вынуждающих обстоятельств: то ли погромов, то ли гражданской войны, то ли массовой депортации. Нам проще сделать выбор, когда его нет.
Родственник мой Яша Фридман — кандидат наук, читал лекции в архитектурном институте, получал зарплату две тысячи рублей, на которую мог купить 12 пачек не самых роскошных сигарет или 200 буханок не самого лучшего хлеба. Получил вызов из Америки. Когда все документы на ПМЖ были оформлены, он сообщил о принятом решении своему научному руководителю. Тот с пониманием и вниманием его выслушал и, взяв по-дружески под локоток, сказал: — Знаешь, Яшенька, надо хорошенько подумать, там ведь многие бедствуют...
Хорошо сидеть в кафе «Капульски» на Ибн-Гвирол, заказать каппучино и что-нибудь сладкое, смотреть, как проходят мимо люди с «лицами еврейской национальности». Пусть рядом играет на скрипке какой-нибудь «оле хадаш» из Ленинградской консерватории. И улицу метет профессор с утонченными чертами лица с кафедры психологии Ростовского университета. А ты сидишь и потягиваешь каппучино из трубочки. Почему-то все время что-то мешает получать удовольствие. Наверное, все- таки проблема выбора: один раз уехать или сто раз услышать. Покупать сейчас, когда денег нет, или потом, когда денег не будет? Работать там, где нет жилья, или жить там, где нет работы? Выпить каппучино и пойти пешком или не пить и поехать на автобусе?.. Неужели вся жизнь пройдет мимо, как проходят «лица еврейской национальности» мимо кафе? Между «или-или». Все разбегается в разные стороны, как два зайца...
Я живу задним умом и задним числом, как моя бабушка. Чаще всего ей приходилось отвечать на вопрос: «Где же ты была раньше?». Потому что правильные решения она принимала, когда уже ничего нельзя было изменить.
Мы гуляем в парке неподалеку от Ла-Гардиа. Почему-то Вова больше всего в Израиле любит парки. Мне парки не интересны и мне скучно.
—Скажи, а в России до сих пор запрещают сидеть на траве?
Иногда Вова задает очень странные вопросы. Я говорю, что в России запрещено ходить по газонам, а сидеть — не знаю, наверное, можно. А как же сядешь, не пройдя?
Вова снимает на видео, как люди в Израиле спокойно сидят на траве. Он скользит камерой по парку и уходит в небо, где парят летучие змеи прямо над нашими головами, в слепящем солнце, во влажном небе.
Ларошфуко сказал: «Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему».
Здесь дуют хамсины, в Тель-Авиве высокая влажность, в Эйлате нестерпимая жара и платят «южные», как у нас «северные». Хорошо там, где нас нет. Да где ж вас нет?
В Иерусалим мы поехали в шабат. Оставили машину на платной стоянке и пошли к Стене Плача. Нам выдали картонные кипы, на которые сразу набросился ветер (хорошо, что не хамсин) и приходилось придерживать.
— Напиши записочку с каким-нибудь желанием и воткни в щель между камнями, — сказал Вова, — оно и исполнится.
— На каком писать? — спросил я.
— На русском?
— Можешь на иврите, — пошутил Вова.
— В том-то и дело, — сказал я.
— В чем?
— Вряд ли еврейский Бог читает на русском языке.
— Ерунда. Читает. На то он и Бог. Так всегда бывает в ответственный момент. В голове какая-то солянка, полная неразбериха. Представился случай попросить и быть услышанным. А чего просить — не знаешь. Вова, придерживая одной рукой кипу, строчит что-то на обрывке русскоязычной газеты «Время».
— Давай-давай, — говорит он мне,
— Сочиняй.
— Вов, — говорю я, — Бог просил тебя не кушать мясного с молочным. Ты его послушал? Он просил тебя сделать обрезание, ходить в синагогу, соблюдать субботу. Ты забил на все его просьбы. И ты думаешь, что теперь он все бросит и скажет: «Ох, Вовочка просит — Надо сделать!»?
Целый день мы мотались по жаркому Иерусалиму. От гробов — к гробницам, от гробниц — к усыпальням, от усыпален — к могилам, по пути перехватывая у арабов дешевые экзотические сладости с орехами в сахаре, тягучие и липнущие к зубам, как одежда к телу. И все так быстро, калейдоскопично, что не хватало времени вслушаться, вдуматься, всмотреться, внюхаться. Уже тогда я знал, что все это смажется в памяти достаточно быстро и получится какая-то странная картина в духе импрессионизма, где ничего невозможно разобрать, но в целом — впечатление приятное. Может, и вправду оно лучше, когда не вдаешься в частности, а, чуть отступив, чуть склонив голову набок, наблюдаешь за ощущением и угадываешь, и домысливаешь...
Я когда-то брал интервью у китайского художника — то ли Дзянь Ши Луня, то ли Лунь Ши Дзяня. Рисовал он листья бамбука. Очень тонкий (как бамбуковый лист) специалист. Он всю жизнь их рисовал и больше ничего. Только листья. Он говорил, что листья бамбука всегда разные: зимой — одни, летом — другие, а весной — не такие, как осенью. «Они меняются, — говорил он, — в зависимости от времени суток». Он рисовал листья бамбука под снегом, под солнцем и под дождем. Но всегда только листья. Наверное, для этого надо быть китайцем. А может, даже не китайцем, а именно Дзянь Ши Лунем.
Между прочим, в Израиле есть то ли китайские евреи, то ли еврейские китайцы. Говорят на иврите с китайским акцентом. Очень смешно. Как в дублированном кино.
Лучше всего купить в какой-нибудь лавчонке 100 граммов жареных орешков по 3 шекеля, банку колы, пачку сигарет и бродить по улицам. Заходить в магазины или просто рассматривать витрины (уиндоу-шоппинг). Шляться вот так, грызя орешки, совсем другое дело, чем когда без орешков. Орешки придают внутреннему напряжению внешнюю беспечность. А еще лучше выйти к морю, сесть на белый пластмассовый стул, закинуть ногу на ногу, хлебнуть из банки колы, закурить и посчитать на иврите до десяти: эхад, штайим, шалош, арба... (если бы израильтянка познакомилась со мной днем, мы могли бы считать с ней мои шекели, а если ночью — то звезды).
Вовина теща попала в больницу с лейкозом. Мы пришли ее навестить. Алла лежала в постели и смотрела телевизор в одноместной палате, рядом с ней в кресле сидел лысый молодой человек, подсоединенный множеством разноцветных трубочек к капельнице на колесиках.
— Шалом! — сказала Алла. — Познакомьтесь: это Сережа. Он без мозга.
— Без костного, — поправил Сережа.
— Шалом!
— Представляете, у него забрали весь костный мозг на обработку.
— Восемь пакетов, — уточнил Сережа.
— Ну и как без мозга? — спросил я, преодолевая накатившую тошноту.
— Подташнивает немного. Но, в общем, ничего. Через неделю обещали влить обратно.
— Если будет себя хорошо вести, — пошутила Алла. — Как тебе мои апартаменты? Вон там у меня — туалет, вон там — душ, завтраки в постель. Неплохо?
— Неплохо, — сказал я.
— Ну, я пойду, — Сережа поднялся с кресла и покатил к двери капельницу.
— До свидания.
— Как же это без мозга?
— Без костного, — уточнил Вова.
— А вот так, — сказала Алла. — Он из-под Чернобыля.
— Вот уж кто благодарен Израилю до мозга костей, — сказал я.
В Израиле хорошо тяжелобольным и старикам (женщинам — с 60, мужчинам — с 65). Дедушка моего приятеля теперь живет в Нетании. Он ест самое дешевое в Израиле мясо — котлеты из индюшатины, индюшачью колбасу, индюшачьи отбивные, индюшачий шашлык — целыми днями.
— Дедушка, нельзя сразу отъесться за всю свою голодную жизнь!
— На хер! — говорит дедушка.
Он покупает дешевую (то есть самую жирную) сметану.
— Дедушка, эта сметана наполовину состоит из холестерина, у тебя образуются атеросклеротические бляшки!
— На хер!
Он смотрит две программы Российского телевидения, читает все русскоязычные газеты и слушает русское радио «Рэка».
— Дедушка, если ты не лопнешь от еды, то взорвешься от информации.
— На хер!
Он ходит в магазины с надписью «Говорим по-русски» и отвлекает продавцов разговорами о политике.
— Дедушка, им не интересна правда о Стаханове!
— На хер!
Возможно, когда тебе хорошо за семьдесят, тебе действительно все «на хер». Хотя познакомился я с двумя старыми людьми — новыми репатриантами. Было им под девяносто, и они хотели вернуться. Жаловались, что им не подходит этот климат. Хотел бы я дожить до их лет и жаловаться на климат! Впрочем, им, наверное, уже не подходит не столько израильский, сколько вообще климат этой жизни.
Откуда берется эта влажность, если лето проходит без единого дождика? Может, это влажность от сухости? А что, так бывает в жизни. Возможно. Возможно, влажность вырабатывается железами внутренней секреции всего еврейского народа. В Израиле говорят: «Полгода течет с нас, полгода — на нас». То, что вы испаряете, на вас же потом и выливается. А что, так бывает в жизни. Одно дело, если вы приехали, потому что хотите жить ЗДЕСЬ, и совсем другое, если потому, что не хотите жить ТАМ. Это отзовется. Хотя и те, и другие аплодируют, когда самолет приземляется в аэропорту имени Бен-Гуриона. Одни аплодируют возвращению на историческую родину, другие — пилоту, третьи — своей победе над таможней и ОВИРом, четвертые — своему еврейскому мужу, который, как известно, не роскошь, а средство передвижения... А потом аплодисменты стихают. И выясняется, что устроиться по специальности очень тяжело, даже если ты инженер по соцсоревнованию. Что Израилю не нужно столько главврачей, историков, филологов, даже дворников столько не нужно. Это понятно: страна маленькая (даже если считать с территориями), и для того, чтобы ее подмести, вполне достаточно двух-трех симфонических оркестров, семи-десяти кафедр советского права или одной киностудии «Союзмультфильм». Выясняется, что Израиль — это страшно «осовеченная» страна, где вместо партбилетов — кипы на темечках, вместо АКМ — УЗИ, вместо казаков — арабы, вместо «пятого» пункта — обрезанный пенис... Вместо одних проблем — другие. В общем, Израиловка. Только пьяных не видно. Да кто ж станет пить в такую жару!
В квартире, которую снимает Вова, все с «выставки». «Выставка» — это место, куда сабры выносят старые или ненужные вещи. С «выставки» у Вовы диван и кресла, стулья и столы, печка и ковер. Вполне приличные вещи, у нас бы такие не выбросили. Случаются и ошибки, когда идет по улице олим, видит, у стены стоит велосипед, и думает, что это «выставка». Садится на него и уезжает.
Все уезжают. Утечка мозгов, «брэйн дрейн» по-английски. Текут мозги. Шлюзы открыли — они и потекли, растекаются в разных направлениях.
Утечки моих мозгов оттуда никто, наверное, не заметит. Это печально. Еще печальнее, что никто не заметит их притока сюда.
«Хотите отсюда утечь?» — спрашиваю я свои мозги. Взять бы свои мозги и отдать на обработку. Вряд ли там наберется на восемь пакетов, но, как говорится, чем богаты... Но пусть их там обработают. Тяжело со старыми мозгами в новую страну. Из-за них руки не держат, ноги не носят. Или держат не то, носят не туда. «Куда вас несет?» — спрашиваю я свои мозги. Нет ответа. Мозги утекают, но люди, люди-то остаются!
Когда я привыкну к верблюдам, как к трамваям, буду говорить на русском с акцентом. У нас есть какой-то родственник Марк, который давно смотался в Австралию и неплохо там устроился. И вот однажды он приехал в гости из Австралии, из Мельбурна, черт знает откуда. Марк подарил мне бумеранг. Бумеранг мне удалось бросить только один раз. Он не вернулся. Он был красивый, с изображением кенгуру. Залетел на крышу и до сих пор там, наверное, лежит. Марк погостил и уехал к себе в Австралию, в город Мельбурн. Так вот, у Марка был акцент. Благородный английский акцент. Марк мог не показывать открытки с видами Мельбурна и Сиднея. Все, что я там увидел, было слышно в его голосе, вернее, в его акценте. Там были роскошные машины, небоскребы, бассейны, неоновые огни, аборигены и даже кенгуру. Никто не подумал бы, что этот человек родом из Могилева. Но когда вы слышите, с каким акцентом говорят на русском в Беер-Шеве, то кажется, что Могилев — столица Израиля. У моей прабабушки Мани был точно такой же акцент. Хотя она никогда никуда не ездила дальше черты оседлости.
Есть такие индивиды, что изменяются под воздействием внутренних факторов, в том числе даже гормональных. Мне необходимы метаморфозы извне, изменения среды. Я готов отбросить плавники и жабры, если вместо воды вдруг окажется земля обетованная, твердо встать на ноги и пыхтеть через две дырочки, может быть, даже говорить на иврите. И все же, когда с меня облетит последняя чешуйка, останется что-то еще: то ли запах водорослей, то ли немигающий взгляд, какая-то мелочь, которая выдаст меня, как татуировка «Вася» на партизане в немецком тылу. А Вовины дети в свои сопливые шесть-семь уже во сне говорят на иврите.
Можно поверить в Бога. Даже в еврейского. Взять его ближневосточную мудрость, отдать ему крайнюю плоть (интересно, зачем она ему?). Вова рассказывал, что всем призывникам в Израиле медкомиссия высчитывает индекс здоровья, в зависимости от которого определяют род войск.
— Самый высокий индекс, — говорит Вова, — 97. Самый низкий — 26. 26 — это у дебилов, их в армию не берут.
— А почему 97, а не 100? — спросил я.
— Ста ни у кого здесь нет, — сказал Вова обреченно. — Потому что все обрезанные. Три процента отнимают за обрезание. Вроде как перенес операцию.
— Странно, по-моему, должно быть наоборот: 100 процентов у обрезанных, 97 — у необрезанных.
Вова:
— Ну евреи ж!
Я говорю:
— Слушай, а как женщины?
— Что женщины?
— Они же тоже служат в армии. У них бывает сто процентов?
— Про баб не знаю, — говорит Вова.
Буквально в первый же день моего приезда я получил карту Тель-Авива. Прежде я никогда не увлекался топографией (от слова «топать»). Есть определенный тип людей, которые обожают карты, атласы, глобусы, масштабы, компасы, линейки и прочие азимуты. Когда однажды проспект Театральный, на котором я прожил всю жизнь, переименовали в проспект Микояна, я чуть было не заблудился. Я с трудом ориентируюсь в прямых линиях метро, когда попадаю в Москву. «Следующая станция — проспект Маркса. Переход на Троцкистско-Зиновьевскую линию».
А тут не карта, а какой-то ребус. Вова считает, что евреи при планировке улиц специально избегают крестообразных пересечений. Поэтому все петляет, игнорируя геометрию и удобства гостей города. Уж лучше ориентироваться по звездам или мху, чем по этой карте. Еще и потому, что в Рамат-Гане улицы будут называться так же, как в Гиватаиме, а в Гиватаиме — так же, как где-то еще.
Однажды в Сочи, в самом центре города, шатались мы с другом посреди августа, в жару, в пекло, в разгар дня. Нас обогнал какой-то запыхавшийся человек в поту и костюме: — Мужики, где здесь море? — устало спросил он.
Страну надо выходить, обтоптать. Это как новые башмаки: где-то трет, где-то жмет. Надо в них походить, не жалея ног, оно и разносится, и притрется. Только через мозоли, через борьбу с собственным плоскостопием. А иначе никак. Жаль, что никак.
Марина дала мне в дорогу апельсины. Вова привез в аэропорт. Служба безопасности не досматривала — махнула на меня рукой. Потом «Аэрофлот» махнул на меня крылом — вылет задерживается на шесть часов. Я брожу по дьюти-фри, рассматриваю прилавки, подсчитываю последние шекели, курю последние израильские сигареты, ем последние израильские апельсины.
Мимо проходит красивая женщина в форме израильской авиакомпании «Эль-Аль» с огромными глазами. Глазищи сверкают благодаря большой отражающей поверхности белков. В них нельзя утонуть, в них нельзя заглянуть. Они слепят, как израильское солнце, от которого обостряется язва. Этот блеск даже мешает рассмотреть ноги. Судя по первому впечатлению, у нее их просто нет... Как нет второго впечатления. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Как нельзя съесть больше одного пирожка натощак. Вот какие глаза — в них нет никаких ответов. В них можно безответно влюбиться. Или подождать, когда диафрагма зрачка сузится настолько, чтобы рассмотреть ноги.
Когда самолет приземляется в Шереметьево-2, никто не аплодирует.
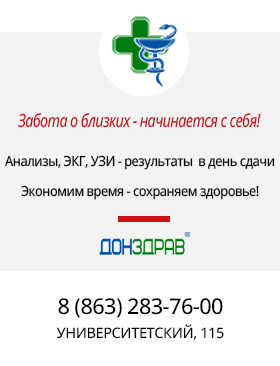

 Перейти в архив
Перейти в архив