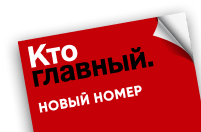
Стояла страшная жара, и мне было четырнадцать, когда в мою жизнь вошла Юлька.
Она заявила, что влюбилась в меня с первого взгляда, и что мы должны пойти отметить это дело.
— Можем ко мне, — сказал я.
— Родители? — деловито осведомилась Юлька.
— Сочи, пансионат «Светлана».
— Тебе сколько лет?
— Семнадцать.
— Врешь.
— Для твоего же блага.
— А что, совсем жопа?
— Четырнадцать. Это жопа?
— Меня убьют на фиг. Пошли к тебе.
Прямо перед нашей скамейкой стоял дипломный проект Вучетича. Четыре здоровяка держали гигантскую вазу вроде той, из которой на дни рождения и праздники наши родственники ели салат «Оливье», а вокруг сидели жабы и черепахи. У всех горлом шла вода.
Я смотрю на эту картину, сколько себя помню: мы часто приходили сюда с папой. Теперь на нее смотрела и Юлька. Юлькины джинсы запирались на здоровенную медную булавку. Такой, по маминым словам, цыгане выкалывают глаза непослушным малышам.
Я был послушным.
Гостиная так и не приняла Юльку. Резной дореволюционный сервант с брюзжанием отдал хрустальные фужеры и бутылку с отцовским «Мартини».
Зато наперсница школярских исканий, моя келейка, вобрала в себя Юльку со всеми ее выходками, как родную. И гипсовый «Мыслитель» — подарок отцовых студентов — покорно притих под летучим Юлькиным лифчиком.
…В Юльку влюбился городской прокурор. В шалманчик напротив Старого базара, где она работает барменшей, он приезжает на «Волге» с телевизором. «Я вам, Юля, квартиру с пропиской…» — и дарит конфеты «Мерси» с ликером.
— И ты что?
— Ем конфеты, конечно, усек? — наощупь в хохочущем юлькином пузике ясно чувствуются так и не усвоенные прокуроские «Мерси».
— Еще вопросы есть?
— Есть. Почему сегодня у фонтана ты выбрала именно меня?
— Не выбрала, а влюбилась по уши, усек? На фиг ты мне нужен, чтобы выбирать.
— Так
— Прямо по полочкам?
— Да.
— Так не все можно. Ну, а — умненький. Бэ — невинненький. Вэ — волосы курчавые. Гэ — губы сексуальные.
— Никофа мы не фовумал — да подожди, Юлька!.. А откуда ты могла знать про «а — умненького»? Ты же влюбилась в меня до того, как заговорила?
— А постой за стойкой бара — через месяц людей будешь видеть рентгеном.
— Юлька, я наймусь к тебе в бар.
— Боже упаси.
— Выражение моей мамы.
— У тебя впереди
— Откуда ты знаешь? Стойка бара?
— Угу. Дай яблоко.
— Если ты все знаешь, скажи: я на тебе женюсь?
—
— А на ком?
— На такой же, как сам, профессорской дочке. Тебе бы пошла худенькая блондинка с большими сиськами…
— Ну вот, а говоришь, не женюсь.
— …Но твоя профессорша будет красивая и толстая брюнетка.
— Как ты это поняла?
— По портрету твоей мамочки. Выбрось огрызок.
— У меня к тебе еще вопрос…
— Вижу.
— Все, финиш! — вопит Юлька, и секунду спустя лязгает булавка. Ворота закрыты.
— Ты куда?
— В пять я уже за стойкой.
— Давай встречаться.
— Ой, убил! — Юлька даже присела на край дивана от смеха. — Ты хоть знаешь, что такое «встречаться»? Лучше скажи «давай это самое».
— Давай это самое.
— А это самое у меня есть с кем. Усек?
И уже совсем было сев в такси, Юлька вдруг выпархивает ко мне на тротуар.
— Давай, быстро, когда и где… завтра.
— В одиннадцать у фонтана.
— Хорошо. Хотя я, конечно, не приду. Вот так у меня всегда: вечно влюблюсь, как дура.
Я, конечно, пришел в десять. И первое, что увидел с лестницы, пока спускался к фонтанной лавке, были Юлькины босоножки. Потом джинсы. Следом — клетчатая ковбойка. Венчалось это сооружение сонной улыбкой на запрокинутом к солнцу лице. Мимо троллейбусы везли людей с тубусами и портфелями. В брызгах фонтана стояла радуга, и загорала Юлька.
— К тебе не пойдем. Жарко, — не открывая глаз, проговорила она.
— Я думал, ты не придешь.
— А я все еще думаю, придти или нет.
— Ну, решай скорей.
— Ты мужик, ты и решай.
— Юлька, а ну немедленно сюда!
В ту же секунду кошачьи глаза вспыхивают у самого моего носа.
— Я здесь хозяин. Куда идем?
— На Левбердон.
Это, конечно, сказал не я. Это во мне издал первый вздох новорожденный мужик, который отныне будет решать.
Есть левый берег Дона. Туда мирные катера, родившиеся от брака трактора с корытом, свозят с городских пристаней стада приличных семей с детьми в панамках и квасом в термосах.
А есть и Левбердон, где средь бела дня отрывают головы, где под армянские напевы истекает любовной джизмой шашлычная «Наири», и куда, упаси Бог, не ходят из приличных семей. Пока не случится Юлька.
Пока она не случилась, я никогда не подозревал, что путь на Левбердон начинается на той же самой городской пристани в окружении все тех же панам, тоненьких удочек для пескарей и бесчисленных термосов, лишь самый смелый из которых наполнен пивом.
Вот мы все на катере, под урчание которого прошло мое детство. Мы плывем к одной и той же пристани. Мы ляжем рядом на одном пляже. И при этом они будут на левом берегу Дона, я — на Левбердоне.
Потому что рядом со мной — Юлька.
Она сидит
Она размахивает обутыми на руки босоножками и пытается перекричать тарахтенье мотора. Ей это удается с успехом, и весь катер с замиранием сердца слушает очередную Юлькину историю.
— Он пришел перед самым закрытием и сел у стойки. Блондин, и нос точеный. Я чувствую, что выпадаю. Пойди сделай
Панамки с мамами мигом сдувает на другой конец катера, и мы остаемся в окружении папаш, сосредоточенно обрисовывающих кончиками тощеньких удочек подметки двенадцатирублевых сандалий.
— Он сажает меня в «мерс». Трехкомнатная хата, Фаусто Паппети — ты любишь Фаусто Паппети?
Я и весь катер — мы любим Фаусто Паппети.
— Я кончаю от Фаусто Паппети, усек? Ну вот, значит. Мускат белый Красного Камня, кровать «ятебедам» — вроде чего не жить, да?
— Да.
— И такой он из себя блондин, и три часа мылся, и вышел из ванной —
— Почему?
— А не от того болта гайка.
— Может, привыкли бы друг к другу.
— А мне, ласточка, привыкать некогда. Мне жить надо!
— Усек!
— А
Юлька смеется, катер урчит, рядом с нами по пути на Левбердон едут на свой левый берег намертво привыкшие друг к другу сытые и стиранные женатики.
Первым же делом Юлька потеряла застежку от купальника. Я заползал вокруг на четвереньках, перерывая песчаные груды.
— Зачем ты убил моих людей, Саид? Вылезай из барханов и ныряй сюда — жарко же на фиг!
Я поднял голову. Между рекой и небом стояла мокрая и голая Юлька. Рядом в тени ивы клевала носом матрона в белом халате. Вокруг нее тупо штамповала куличики пионерлагерная смена.
— Стыдно, девушка. Здесь дети.
— Стыдно, у кого не видно, — Юлька колыхнула арбузами.
— Эй, детки в клетке, ко мне!
И прежде, чем белый халат разродился отповедью, — «
Мы целовались.
Дети вопили от восторга и подстегивали нас водяными залпами. Я чувствовал себя фонтаном Вучетича.
В чем мать родила мы лежим на поляне. На Юлькином колене сидит богомол. Юлька рассказывает о себе.
…Родом она из Магадана, где отец руководил геологической партией. Ее не отпускали ни на шаг, и даже в школу подвозили на отцовской машине. После экзаменов на аттестат зрелости Юлька улетела в Сочи с подружкой. Неделю перед этим вся семья пила валерьянку. Как чувствовали.
Он был блондин, и нос точеный. Пойди сделай
…Когда Юлька очнулась, на дворе стояла глубокая зима. Вдруг выяснилось, что существуют семья и ребенок, к которому, оказывается, родительские чувства никогда не остывали, а теперь возгорелись с новой силой. А что до Юльки, так: «Видишь ли, ласточка. В жизни каждого мужчины…»
Так Юлька очутилась одна в чужом городе, без денег, друзей и работы. К отцу с матерью в Магадан ехать не хотелось. Да честно если, просто стыдно было ехать. К квартирной хозяйке сын возращался из тюрьмы, и за неделю надо было
И пошло, и поехало.
— И пошло, и поехало, — Юлька ладошкой показывает, как именно поехало, и испуганный богомол убирается восвояси.
— А когда появились деньги, смогла купить место в центральном баре. И прикинь: каждый вечер смотрела в зал — вдруг появится он. Как я и думала…
…Как Юлька и думала, в один прекрасный вечер появился он. И даже сел именно за тот столик, где мысленно представляла его Юлька.
Разумеется, он был не один. С первого взгляда стало ясно, что на этот раз он попался. А по тому, как морковный маникюр ерзал по меню, Юлька поняла, что, скорее всего, голубчик и сам еще не знает, насколько крепко он попался.
Обычно Юлька не выходит
Тонька и тут было пошла принимать заказ, но посмотрела на подругу и застыла, как вкопанная. Юлька молча взяла блокнотик и, раскачиваясь на шпильках, вышла
— Усек? А теперь иди ко мне. Буду тебя бросать.
— Да подожди.
— Так непонятно разве?
…Конечно же, он немедленно словил морковной ладошкой по физии, был сгробастан и вытащен прочь.
Конечно же, спустя пять минут он влетел обратно — со следами борьбы, как сказал бы городской прокурор, — и намертво прилип к юлькиной стойке до самого конца смены. Когда Тонька с ребятами стали гасить свет в зале, Юлька впервые подняла на него глаза.
— Дерьмо ты просто. Усек? — сказала она и вышла из зала.
На фиг.
— Все, финиш! — в последний раз слышу я лязг булавки, и спустя час мы стоим у перехода в центре города. По мысли Юльки, я остаюсь на этом берегу, она ныряет в подземелье и выходит наружу уже в недосягаемом далеке.
— Я никогда не пойму этой твоей мысли, Юлька.
— Ну и дубина.
— Я могу хотя бы проводить тебя?
— Куда — в бар?! Только тебя там не хватало.
— Да хоть к прокурору.
— Прокурор, я чувствую, сам придет. Не в курсе, статья о растлении предусматривает конфискацию?
Мы смеемся, будто встречаемся, а не наоборот.
— Так, стало быть…
—
Юлькины губы напоминают свежевывороченный помидор.
Ее язык — напильник, сделанный из клубничного желе. Так в моей жизни не целовалась больше ни одна женщина.
— Между прочим: мы начинали с того, что ты в меня влюбилась по уши, — рассуждаю я, изо всех сил стискивая Юльку.
— Нашли место, — говорит мужчина с тубусом.
— И вот уже полдня я не слышу, ты все еще любишь меня?
— Мы начали с того, что тебе четырнадцать, и меня убьют.
— Ты не ответила.
— В тридцать ты сам себе ответишь.
— Мне некогда ждать. Мне жить надо.
— Так вот и живи себе спокойно.
— Мне нужно сейчас.
Помидор полон клубничным желе.
— Нашли место, — говорит портфель в шляпе.
— Я жду ответа.
— Вот и клево.
— Что?
— Что ждешь. Проторчи мы в обнимку полгода — вопрос отсох бы сам собой.
— Быстро: да или нет?
— Финиш! — вырывается Юлька и, отвернувшись, шепчет:
— На фиг.
— Девка, а как все равно мужик, — подмечает женщина с постным маслом.
И уже вынырнув на том берегу, уже отрезанная навсегда бесчисленными троллейбусами, тубусами и портфелями, Юлька вдруг оборачивается.
— Да! Да! Да! — кричит она.
Больше я ее не видел.
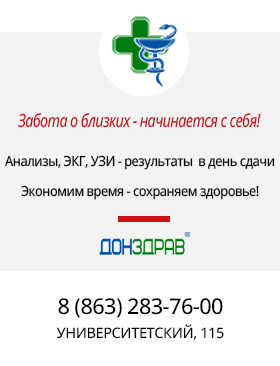

 Перейти в архив
Перейти в архив