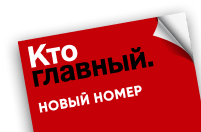
Сергей Медведев
ПОСЛЕДНЯЯ ТЫСЯЧА СЛОВ
—Внимание! Еще раз — внимание! Так, товарищи, успокоились! Попрошу внимания! Врачи среди вас есть?
—Какие врачи?
—Повторяю, врачи среди вас есть? Любые.
—Я медсестра!
—Нет, нужны врачи! Врачи идут без очереди, слышите? В комнату номер 215. Скажите, по линии Потапова.
—А это что за линия?
—Миша, ты где? Врачи нужны, ты же врач! Миша! Ты куда от меня спрятался?
—Женщина, да что вы так кричите?
—Я! Я! Я зубной врач высшей категории, вот все документы.
—В комнату 215, я же сказал. На втором этаже. И спокойнее...
—А жену можно с собой взять?
—Нет, только врачи. Жена на общих основаниях.
—Скажите, мужчина, а что вообще с собой можно брать?
—Галеты, зубную пасту, 5 литров воды. Читайте объявление. На стене висит.
—Уже сорвали...
—А мы новое вывешивали. И это сорвали?
—Но мы же будем лететь три года. Разве хватит?
—Дама, мой совет — возьмите изюм, мед и орехи.
—Это правильно.
—Мне тоже говорили, что мед разрешен.
—В газетах публиковали список разрешенного, там мед есть. Орехов, по-моему, нет.
—Это уже потом изменили.
—А почему летят только люди с избыточным весом?
—Это решение правительства.
—А вы не знаете?
—Догадываюсь, конечно, не дура.
—Ая произвожу впечатление толстой?
—Ну, какая же вы толстая? Вы лучше на меня посмотрите.
—Я весь последний месяц целыми днями ела. Ела, ела, ела, ела. Жирное, сладкое, мучное. Почти сто килограммов набрала. Какая же я худая?
—Товарищи! Попрошу минуточку молчания. Еще одно объявление. Требуется один повар с опытом работы в общественной столовой. С санитарной книжкой. Только один.
—Я повар.
—Документы есть?
—Нет документов. Я же не знал. Про поваров нигде не писали. Я как с избыточным весом пришел.
—Я!Я повар. -Ия.
—Миша! Миша! Ты где? Ты же повар. Слышишь, повара нужны!
—Опомнились. Почему же раньше про поваров не говорили?
—Все у нас так делается.
—Товарищи, успокойтесь! Мы понимаем вашу тревогу, но на Марс летят всего 100 тысяч россиян. Это немало.
—А говорили, что все желающие.
—Желающих оказалось слишком много. Неожиданно много оказалось желающих. Вы это сами прекрасно знаете. Мы
не рассчитывали на такой наплыв.
—Надо было жребий бросать. Мы же все лететь хотим. А без жребия — никаких шансов. Я не врач, не повар, избыточного веса у меня нет.
—А чего пришли? Дома не сидится?
—У меня даже муж дома остался.
—Я им предлагал все свои сбережения. Говорят, ничего не надо. Раньше надо было предлагать, хотя бы за месяц, а теперь — нет. Все, говорят, ваш поезд ушел. Улетел...
—Завтра летят.
—Но завтра до обеда хотя бы магазины будут работать? Я же мед не купила.
—Я вчера весь город обошла, меда нет. Все остальное есть, а меда нет. Всем вдруг понадобился.
—И галеты исчезли.
—А зубная паста есть. Любая, причем... Зубы они не собираются чистить?
—Соль тоже исчезла.
—По одному будут вызывать?
—Говорят, что всех, кого надо, уже вызвали.
—Интересно, а настоящие космонавты полетят на Марс? Юрчихин, Котов?
—Они же уже на орбите.
—Они должны вернуться.
—А вы «Вечерку» читали? Последний номер. Много жалоб на отборочные комиссии... Агрономы нужны, а им отказывают.
—Господи, что мы будем делать на этом Марсе? Я на земле никогда не работала, муж в основном...
—Мы — ничего. Мы все завтра...
—Послезавтра, говорят...
—И три года в дороге. С ума сойти.
—Сколько же нам еще стоять? Хотя бы скамейки были.
—Откройте окна. Духота невыносимая. Мужчины есть в этом помещении? Откройте, пожалуйста, окна. Сколько можно просить о такой мелочи?
—Миша! Миша, ты где?
—Нет здесь никакого Миши.
—Мужчина, что вы на меня легли? Господи, что это у вас тут такое мокрое? Боже мой! До чего человек может дойти. Отойдите от меня подальше.
—Яс пяти утра стою. Сначала по списку были, а сейчас, говорят, никакие списки недействительны... Живая очередь.
—Я целую неделю хожу.
—И всегда так много людей?
—Вчера было еще больше. Потапов сказал, приходите в последний день, никого не будет.
—Это завтра, что ли? Или все-таки сегодня?
—А кто этот Потапов? Я никогда о нем не слышал.
—Мне что-то рассказывали. Дебил, говорят, ужасный...
—Да они там все дебилы. Мы же их сами выбирали.
—Я никогда не ходил на выборы.
—Вот черт.
—Что это?
—Затемнение?
—Да-а.
—Свет потушили. Посмотрите, во всем городе темно... Интересно, это только у нас отключили или во всем мире, в Америке, Японии, Европе?
—Я думаю, только у нас и в Африке.
—Наверное, в Африке есть племена, которые ничего такого и не предполагают. Жгут себе костры...
—А моя мать тоже не знает, что происходит. Она уже лет десять из дома не выходит, а мы с ней не разговариваем... Слепая к тому же. Но готовит хорошо. На ощупь. Она знает, где что лежит, у себя же дома... Я не знаю, она знает...
—Да, конец света.
—И что они думают?
—Наверное, больше не включат.
—Женщина, умоляю, не надо меня толкать... Да что ж вы за рукав мой цепляетесь. Не цепляйтесь... Тут кажется кому-то плохо... Осторожно, тут женщина упала. Есть врачи?
—Врачи? Врачи дома вещи пакуют.
—Счастливая... Я тоже бы хотел так легко умереть.
—Смотрите, в окно комета видна...
—Уже большая. Как Луна.
—А что ж они нас тут за дураков держат. В загоне. Сказали бы уже, что не надо...
—Потапов, кажется, ушел.
—Я думаю, что если погибать, так всем. Почему одни летят, а другие должны оставаться?
—А вы видели эти ракеты?
—А кто их видел? Говорят, где-то под землей. В шахтах. Солдаты охраняют. Только добровольцы-контрактники.
—Миша!
—Вы в Бога верите?
—Верю. Месяц уже как верю. Как про комету услышал. Обещают, что Бог нас не оставит... Интересно, а священники полетят?
—Я бы всех верующих здесь оставил. Что им на Марсе делать? Им и тут хорошо будет.
—Хотите выпить?
—А вы какая?
—Здесь много одиноких.
—Потому что с избыточным весом. Наверное, еще поэтому...
—У меня так сердце бьется.
—Миша, ты где?
—Страшно... -Да.
—Обещали, что перед смертью вся жизнь перед глазами пронесется. А у меня ничего не проносится. Только комету и вижу... Наверное, позже...
—Миша, ты где, мой сыночек?
—Женщина, где ж вы тут в темноте Мишу найдете?
—А вам какой Миша нужен?
—Любой. Это же женщина, которая с вами рядом стояла. Я по дезодоранту ее запомнила.
—Миша!
—Чокнулась.
—Как-то не смешно.
—Холодно, хотя май на дворе.
—В мае ночи прохладные.
—Мы на следующий год кредит должны были выплатить. Большую часть с мужем выплатили, во всем себе отказывали, на еде экономили. Нам не грех и поголодать, муж говорил. Дурак... А я и не похудела совсем... Получается, все зря? Все, все...
—Но если бы вы похудели...
—Ну да. Значит, все-таки не зря.
—У нас то же самое... Как трезвый, говорит, сейчас нам рано обзаводиться детьми, еще успеем. А как пьяный, так
—давай быстрее!
—Ну, и что бы вам сейчас эти дети? Уж лучше без детей. Сейчас бы за них переживали.
—Я вам вот что скажу, я не верю, что все так кончится. Должен быть какой-то выход. Какой-то запасной вариант.
—А мы никогда не экономили. На еду денег не жалели. Холодно, действительно.
—Миша, ты где? Миша, не надо от меня прятаться... Я же знаю, что ты здесь.
—Мама, ты зачем сюда пришла?
—А что ж ты домой не идешь, сынок, поздно ведь. Я ужин приготовила, наверное, уже остыл. Я одна никогда за стол не сажусь. Поверите? Сыночка дождусь и только тогда сяду... У нас так в семье принято. Не поверите. Ну, и ладно... Миша, пойдем домой! Бери меня за руку и пойдем.
—Я иду, мам! Где твоя рука? Куда идти?
Макс Белозор
ЕСЛИ НЕ НАСТУПИТ ЗАВТРА
Земную жизнь пройдя до середины (это еще в лучшем случае), собственной смерти боишься гораздо меньше, чем лет двадцать назад или в детстве. В этом нет никакого бесстрашия. Просто все уже более или менее ясно, и если вдруг становится известно, что жизнь должна прерваться, то такого страха и обиды, какие возникали при подобных мыслях лет в десять, возникнуть, вроде бы, не должно. Но зато возникнут другие. Например, тревога о том, как без меня будет жить младший сын, которому летом как раз и исполнится десять. И наверняка не получится избежать сожаления о том, что пролетевшее время было прожито кое-как. Да и детские страхи и обиды, хоть чуть-чуть, но напомнят о себе: меня уже никогда не будет, я уже никогда не смогу попробовать, увидеть, почувствовать... В общем, ничего особенного, обычный набор переживаний. Зато в случае не просто смерти, а объявленного конца света актуальность приобретет еще одна причина нервозности. Та, которая прописана в самом популярном монологе всех времен и народов. Вечная «неизвестность после смерти»... Короче, страшно все равно будет.
Из-за этой самой неопределенности, смущавшей принца Гамлета, личные сценарии последнего дня перед концом света могут быть очень разными. Не из-за способа уничтожения мира, а из-за того, что будет после. Все дело в главном вопросе. В вопросе бессмертия души. Ведь одно дело, если все случится, как обещает Иоанн Богослов: «и будет конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад будет следовать за ним». И совсем другое, если нас тупо вырубят.
Хорошо бы знать заранее. Если разъяснительная информация будет доведена до сознания обреченного человечества заблаговременно, то каждый будет действовать по обстоятельствам.
Что касается лично меня, то, независимо от причины Апокалипсиса, я намерен действовать по одному и тому же плану. Сразу скажу — ничего интересного не планируется. Я не буду устраивать грандиозную пьянку на античный манер. Не буду собирать друзей, чтобы в последние минуты мы были вместе и опять- таки устроили грандиозную пьянку. В первую очередь потому, что друзей почти не осталось, да и собрать их не реально. Я не постараюсь трахнуть молоденькую негритянку, хотя меня и огорчает осознание того, что, похоже, придется умереть, так и не трахнув молоденькой негритянки. Но, во-первых, с молоденькими негритянками в наших краях по-прежнему напряженка. А во-вторых, в последний день мира молоденькую негритянку вряд ли заинтересует такой пожилой мудак, как я. Я не брошусь на поиски наркотиков, чтобы с их помощью как- то отвлечься от неприятных мыслей.
Я не помчусь в аэропорт, чтобы улететь куда-нибудь в живописное место и там встретить последний луч солнца. Тем более, что улететь куда-то будет совершенно нереально. Я не сойду с ума. Не пойду в церковь.
Не буду каяться. Хотя, возможно, и помолюсь о спасении души. Конечно, я выпью, чтобы немного успокоиться. Я постараюсь дозвониться в Берлин Авдею Степановичу Тер-Оганьяну, к которому так и не собрался съездить. Дозвониться, конечно, вряд ли получится, но если повезет, то мы посмеемся напоследок. Наверное, я даже не поеду к родителям. То есть, я, конечно, постараюсь повидаться с ними или хотя бы поговорить по телефону, но в последние часы я не хочу быть с ними. И со своими взрослыми детьми я тоже не хочу быть в последние минуты. Не потому, что не люблю их. А потому, что у них уже есть те, с кем они должны и, наверняка, захотят быть в последние часы. Кроме дочки Вари. У нее тоже есть тот, с кем она, вероятно, захочет побыть наедине перед концом света, но она уже второй год живет в далеком Лондоне, и мы по ней скучаем. Так что ее я позову. Но она вряд ли успеет прилететь, учитывая бардак, который тут же начнется на всех авиалиниях мира. Поэтому я останусь дома. С Олей и Васей. Даже сейчас, когда конец света еще не объявили и можно спокойно перемещаться по улицам, и ездить к кому-то в гости, и в кино, и на вернисажи, я предпочитаю сидеть дома при любой возможности. Дома уютно, и все, кого хочешь видеть сильнее всего, постоянно перед глазами. Поэтому я останусь дома.
Если предположить, что о завтрашнем конце света мы узнаем сегодня утром, то мне даже не придется совершать лишних движений, чтобы организовать достойные проводы мира. Все есть. В холодильнике имеется необходимый запас продуктов и початая бутылка шампанского. В буфете — две нетронутые бутылки коньяка. Шампанское осталось с моего дня рождения — я так увлекся накануне, что день рождения прошел в тихом безалкогольном режиме. По той же причине и коньяк стоит нетронутым — уже две недели.
То есть, к встрече конца света все готово. Имеются даже две иконы — послевоенные, деревенские, в черных коробах. На одной — раскрашенный анилином лик Николы Угодника, на второй —Богородица с младенцем Иисусом. Обе — в рукодельных окладах из тонкой серебряной фольги и украшены выцветшими пластмассовыми цветочками. Их Оля привезла с Украины, когда навещала родню. Их можно будет поставить куда-нибудь на видное место. Чтобы было спокойней.
Собственно, ничего особенного не произойдет. Разложим на кухне диван, усядемся на него, выпьем по рюмке, потом еще. Будем, припивая, смотреть по DVD какое-нибудь кино. Попытаемся сделать так, чтобы Васе было не страшно. Можно будет спокойно курить, не боясь, что прокурим квартиру насквозь. А Васю уложить спать попозже. Когда он уснет, напоследок от души займемся любовью. Потом перенесем спящего Васю из его комнаты обратно на кухню и уложим его у стены — чтобы быть всем вместе. А сами будем сидеть и разговаривать, допивая коньяк и вспоминая разные истории из нашей совместной жизни. Примерно так, как вспоминают уходящий год в новогоднюю ночь. Наверняка вспомним всех, кто умер, и порассуждаем — увидимся мы теперь с ними или нет? Хорошо бы увидеться. Они там уже давно и могли бы порассказать, что и как.
В общем, не случится ничего особенного, все будет походить на обычный пятничный вечер, когда завтра выходной и можно лечь попозже.
Но вообще-то, на всякий случай, надо купить еще одну бутылку коньяка. Все-таки двух может и не хватить.
Денис Гуцко
МЫ НИКОГДА НЕ УСНЕМ
Пробуждение ворвалось пронзительным лаем собак и воем сигнализации. Малыгин вскочил раньше, чем проснулся. Вслепую, со склеенными веками, пролетел три шага по направлению к свету, к резкому звуку — и остановился, больно упершись бедром в подоконник. Теперь он очнулся. Продрал глаза и выглянул вниз. На опустевшей стоянке кто-то добивал боковое стекло «шестисотого» мерседеса обрезком трубы. Вокруг человека — Малыгину было не разобрать, женщина это или мужчина — вконец ошалелые, прыгали обитавшие на стоянке собаки. Ни одна не решалась укусить. «Всю свою собачью жизнь ждали случая растерзать какого-нибудь злодея, — подумал Малыгин. — И вот не знают, что делать».
Он взял с подоконника сигарету, повернулся спиной к окну. Прикурил и закашлялся. Так и не успел научиться курить. Ему всегда нравились эти сцены в кино, когда главный герой просыпается и, почесывая волосатое тело, тянется за сигаретой. В мятом лице — вся надломленность и усталость мира. И одновременно — живучесть. Наверное, легкие главного героя давно похожи на засохший грецкий орех. Наверное, где-то в глубине его волосатого тела уже завязались узелки раковой опухоли. Ему плевать. На все плевать — начиная с самого себя. И все же именно он в этом мире — самый живучий. Как насекомое. Как незамысловатый механизм. Города станут пылью, космические спутники попадают с грохотом консервных банок. А Главный Герой проснется в своей кровати посреди угасшего мира и привычно потянется к сигарете. Так и не научился.
Заведя руку за спину, Малыгин затушил сигарету о стекло, оставив на нем черное осыпающееся пятно. Он дотянулся до пульта мультимедиа, ткнул в кнопку ТВ и скомандовал «листать». Телевизор стал переключаться с канала на канал. Похожие как две капли воды передвижные телестудии, похожие своими воспаленными глазами ведущие. Грибы ядерных взрывов в каких-то городах. Какая уже разница — в каких...
Малыгин представил вдруг, как он вслепую бежал к окну. Наверное, как та курица с отрубленной головой. Малыгин видел это однажды в детстве,
в деревне, куда они уехали с мамой на лето. Тесак чавкнул, впившись в деревянную колоду, разом отшвырнув голову с дрожащим красным гребешком под забор и оборвав истошное кудахтанье.
А курица, выпав из разжатых пальцев хозяйки, вдруг вскочила и побежала прочь. И было немножко жутковато, но в общем-то очень даже смешно смотреть, как она отчаянно гребет лапами, то и дело заваливаясь на бок, отчего из нее, как из опрокинутой чашки, на траву выплескивается кровь. «Да-да, —усмехнулся Малыгин. — Все мы сейчас бежим куда-то, как куры с отрубленными головами».
Мама связалась с ним позавчера. Плакала, приближалась слишком близко к объективу телекома, так что лоб ее или щека время от времени заполняли весь экран. Говорила, что из Воронежа всех эвакуируют куда-то на Урал. Говорила, что она была с ним на Урале, только он был очень маленький и ничего, наверное, не помнит. Малыгин действительно не помнил. Он не знал, что ей отвечать. Просто отключился.
Маша связалась с ним еще раньше, неделю назад. Разговор у них тоже не заладился. Даио чем, собственно, говорить?
—Вот так, — все повторяла она, поджимая губы и качая головой куда-то в сторону. — Вот так.
Позади нее шла колонна какой-то военной техники, было шумно.
—Врачей заберут в Бункер, — сказала она и тяжело замолчала.
Малыгин и в тот раз, не найдя слов, отключил свой телеком. Не о чем говорить. Ее заберут в Бункер. Она скорей всего останется жить. Там, под землей. А он, Малыгин, не врач. Не военный. Вообще ненужный. Рекламщик. Что рекламировать после атомного Армагеддона? Вот так. Нужно было выбирать профессию, которая окажется нужной и после ядерной зимы.
—Стоп! — скомандовал он, увидев на экране американского президента.
Телевизор прекратил перелистывать каналы.
—...А также российские города Краснодар и Ростов-на-Дону, — уловил Малыгин синтетический голос переводчика.
Стало быть, сегодня в полночь все и кончится. Что ж, настало и наше время.
Предупреждают заранее, куда нанесут следующий удар. Дают сутки на то якобы, чтобы эвакуировать гражданское население. Лучше бы убивали неожиданно. «И ведь сделают, как обещают, — вяло подумал Малыгин.
—Как с Москвой было». Итак, сутки. Последние сутки. Он сел на корточки, втиснув локти между коленей. И все кончится.
«Да нет, не сутки, — вдруг понял он. — Гораздо меньше. День ведь давно.
А они, говорят, бьют еще до следующего рассвета». Малыгин вскочил на ноги. Сердце его застучало, и ему даже понравилось это — понравилось, что, наконец, он вышел из ступора. Он схватил валявшиеся на полу брюки, надел их, полез за чистыми носками в комод.
Внизу, на стоянке, полыхал «мерседес». Видимо, тот, кто пытался его угнать, уже слышал сообщение Последнего Дня. Непонятно, каким образом он рассчитывал угнать «шестисотый». Со злости поджег его. Поджег то, что не смог украсть, накануне конца света.
Малыгин рассмеялся. Смеялся долго и звонко, перетаптываясь с ноги на ногу, утирая запястьем слезы. Вдруг остановился, быстро надел носки, которые держал зажатыми в кулаке. Жизни оставалось совсем немного. Нужно было что-то делать. Не дожидаться же, сидя дома. Сделать что-то.
Он оделся, прихватил на кухне большой цельнолитой нож, сунул его во внутренний карман куртки и выскочил в подъезд. Бросив дверь открытой, Малыгин побежал вниз по лестнице.
Многие двери были не заперты. Некоторые — нараспашку, другие — полуприкрыты. Из-за каждой тянуло смертью. Неотвратимо приближающейся, непоправимо близкой. Смерть уже въехала в эти оставленные людьми квартиры.
Двумя этажами ниже Малыгин услышал всхлипывания за одной из распахнутых дверей. Квартира Ватутиных: он — какой-то небольшой чиновник, она — профессиональная танцовщица. Малыгин зачем-то вошел. Сразу ступил в скользкую запекшуюся кровь. В коридоре, свернувшись в углу калачиком, лежал мертвый Ватутин. В боку, в нежно-сером мундире — рваная дыра. В глубине квартиры, наступив одним коленом на край кровати, стояла его голая жена. Она тихо плакала, уставившись куда-то перед собой. Малыгин осторожно пошел по коридору к спальне и вскоре увидел сидящего на кровати, вполоборота к нему, тучного лысоватого человека в расхристанном халате. То был сосед Ватутиных по лестничной клетке. Имени его Малыгин не помнил. Угрюмый тип с одышкой и дурной привычкой закуривать в лифте. Сообразив, что здесь произошло, Малыгин вынул нож и, в один прыжок добравшись до кровати, схватил
толстяка сзади за подбородок. Крепко прижав к себе его голову, замахнулся ножом на уровне горла — и вдруг остановился. Толстяк шумно сопел, его била крупная дрожь. Но он совсем не пытался сопротивляться. Малыгин понял, что не сможет, если его не подтолкнуть.
Если бы тот начал упираться. Или женщина подала какой-нибудь знак. Вопросительно посмотрел в мокрые и бессмысленные глаза женщины. Она сморщилась. Пожала плечами. Выдохнув что-то вроде «ааай», потянула из спутанных простыней майку, начала надевать ее через голову. И вправду — какая разница? Отпустив этот потный щетинистый подбородок, Малыгин нечаянно поднял глаза на большое зеркало в стеклянной раме, висящее над кроватью. В зеркале, слегка запрокинутые вверх — комната, кровать, люди, мебель. Завтра все это: и комната, и мебель, и люди — и содеянное этими людьми в этой комнате — превратится в золу. Малыгин бросил нож на подушку и вышел.
Пожаров сегодня было гораздо меньше. Над городом журчал ненормально спокойный голос диктора Министерства пропаганды: «Не паникуйте. Будет сделано все, чтобы предотвратить катастрофу». Вдалеке размеренно гудел колокол.
Машин было совсем мало. Те, у кого были машины, в самом начале стали разъезжаться подальше от города, по деревням. Поговаривали, что на трассах стояли километровые пробки, и военные вроде бы даже расстреливали тех, кто выезжал на трассу вопреки введенному запрету. Малыгину доводилось убивать. Когда его однажды попыталась ограбить по пути от метро домой шайка малолеток, он убил одного. Встроенным в брелок для ключей лезвием. А тут вдруг не смог. Не смог. Через десять минут он убедился, что неспособность убивать — убивать человека, который стоит перед тобой, руками убивать — поразила не его одного.
На перекрестке Буденновского и Пушкинской, перед штабом СКВО, черный «Хищник» медленно, как-то лениво, месил лопастями воздух. По Буденновскому в сторону Дона шли люди. Целыми семьями, группами, поодиночке. Ехали и мчались на велосипедах, толкали перед собой коляски с детьми. Машинам здесь, видимо, не разрешалось ездить. Только военным и чиновникам.
Вдоль ограды СКВО, припадая на одну ногу, метался старик. Медали на его груди качались и прыгали. Кричал что-то в сторону «Хищника», вдруг принимался задирать штанину. Из-под нее показывался блестящий титановый протез. Он стучал себя по протезу. Неужели странный старик полагал, что кому-то может быть дело до его протеза? Разгибал спину и принимался кричать что-то в разбегающийся от вертолета рокот и свист. Из «Хищника» выскочил солдат и, как-то по-детски выронив автомат на асфальт, кинулся к старику. Через мгновение они впились друг в друга крепкими, будто захлопнувшиеся створки капкана, объятиями. Следом за ним, придерживая фуражку, из «Хищника» вышел офицер в кожаном плаще. На ходу вынул из кобуры пистолет, подошел к этим двоим, застывшим в объятьях. Он приставил ствол к затылку солдата и что-то ему скомандовал. Прошло секунд десять. Малыгин стоял на противоположной стороне проспекта, ожидая выстрела.
—П...Ц солдатику, — сказал кто-то рядом с ним. — Персонально откинется.
Но офицер только пихнул сердито пистолетом куда-то над локтем старика, в коротко стриженный затылок, сбивая с него камуфлированную каску. Развернулся и побежал к «Хищнику», на ходу подхватив с земли брошенный солдатом автомат. «Хищник» заревел громче, клюнул носом и резко, будто его подняли за ниточку, ушел в небо.
—Видал, как с папашкой любят друг друга? Это папашка его. Только реально старый, а? — снова заговорил кто-то за его спиной. Старик и солдат так и стояли, не шевелясь. Малыгин оглянулся: позади него стоял малец лет девяти. На шее сразу три медиа-бокса. Наверное, спер в каком-нибудь из разграбляемых напоследок магазинах. Первое спокойное лицо, увиденное Малыгиным с начала ядерных ударов. Почему им не страшно? Никогда не страшно. Грабить прохожих, убивать, если понадобится. Умирать, если все сложится совсем уж неудачно. Вот и сейчас — не страшно.
—Тебе не страшно? — спросил его Малыгин.
Парень длинно плюнул себе под ноги и пошел к парку, на ходу прилаживая наушники.
«Что же я собирался сделать?» — думал Малыгин, идя вниз по Буденновскому.
Впереди на перекрестке многоголосо гудели сигналами автомобили. Сбившиеся в стайку белые «мерседесы» с мигалками пытались объехать высокий бронированный транспортер, который, будто огрызаясь, время от времени рычал и выплевывал вверх черные облачка гари. Неожиданно Малыгин понял, что никакой цели на самом деле у него не было. Ему только казалось, что он выскочил из дому, чтобы попасть в какое-то определенное место, чтобы сделать какое-то важное дело. Дела у него не было. И места, в котором ему нужно было бы сейчас оказаться — тоже не было. Только не в Ростове. Может быть, где-нибудь на острове Пасхи. Да, на острове Пасхи. Там бы у него было дело. Он лежал бы пупком к небу на каменистом склоне и представлял бы себе, как будет лежать здесь завтра — на этом же месте, точно в такой же позе.
Его чуть не захлестнула истерика. Колокол был уже совсем рядом. Выйти на Соборную оказалось непросто. Перед ним была стена человеческих спин. Плотная, страшная в каком-то скрытом общем движении, толпа заполнила все пространство впереди. Казалось, толпа вздрагивает. Или дышит. Присмотревшись, Малыгин понял, что люди крестятся. Мужские затылки, платки на женских головах, то здесь то там мелькающие над человеческим морем руки. Мужчина в длинном старомодном пальто пытался протиснуться вглубь.
—Пропустите, — бубнил он. — Я хочу им что-то сказать. Хочу им что- то сказать.
Без умолку бил и бил колокол. Малыгин краем обогнул молившихся, оттолкнув кого-то совсем обезумевшего, пытавшегося ухватиться за каждого, кто проходил мимо — и пошел к Дону. Он все же придумал себе дело. Решил спуститься к реке. «Вдруг там какие-нибудь спасательные катера», — подумал он. Но тут же рассердился на себя: «Что за чушь? Какие еще катера?». Стеклянные двери универсама были открыты, внутри звучал вальс. Малыгин остановился. Действительно — вальс. Вошел вовнутрь, переступив через горку высыпавшихся из разорванной коробки консервов. Посреди разгромленного мародерами зала орудовала шваброй уборщица в ярко-синем халате. Пробивала тропинку в засеявших пол обломках и грудах мусора. Позади нее, в центре расчищенного пятачка, стоял включенный магнитофон, бутылка коньяка и наполненный на два пальца бокал.
—Зачем Вы метете? — крикнул ей Малыгин. — Все равно ведь уже? Она посмотрела на него невнимательным взглядом, прислонила швабру к прилавку и, разминая кулаками поясницу, проковыляла к бокалу. Сделав глоток, прикрыла глаза и слегка повела бокалом в такт звучащему вальсу. Было ей лет сорок, наверное. Руки были красные, огрубевшие от работы. Проглотив, женщина улыбнулась и подошла к Малыгину, держа бокал на отлете.
—Сигары, дураки, все позалили чем-то, — весело сказала она. — Весь кайф мне сломали. Какие сигары были, дорогой ты мой! Хорошо, коньячку прибрать успела.
Малыгин почувствовал вдруг странное спокойствие. Теперь ему стало понятно, как он будет встречать конец света.
—А можно мне чего-нибудь? — попросил он.
—Там вон, в тележке.
Он прошел чуть дальше и увидел магазинную тележку, набитую дорогими коньяками и деликатесами. Потянул наугад — оказался армянский, десятилетний.
Малыгин вышел к Дону сквозь разбитую витрину. Дохнуло сыростью. Кто-то на левом берегу пускал фейерверки. В пасмурном дневном небе они раскрывались мутными целлофановыми зонтиками. Река была испещрена рябью, менявшей цвет от зеленовато-бурого почти до черного. Дон хмурился.
Взобравшись на каменные перила, Малыгин свесил ноги, устроился поудобней и откупорил бутылку. Глотнул коньяка, посмотрел вверх, на затянутое серыми тучками небо. Коньяк прокатился ароматным теплом, и он подумал: как это неимоверно глупо — умирать. И еще подумал, что если бы не приключившийся вдруг Армагеддон, он ни за что бы не сидел возле реки, поглядывая то на серое небо, то на черно-зеленую воду. Он в общем-то не любил Дон. Из-за комаров. Но сейчас комары куда-то подевались.
Мост был сплошь забит брошенными автомобилями. Похоже, военные действительно перестали выпускать транспорт из города. «И все-таки лучше так, чем бежать. Бояться быть расстрелянным своими же вояками. Оставаться посреди трассы без бензина и еды». Малыгин глотнул еще. Пожалуй, если бы конец настал именно сейчас, он был бы доволен своей финальной сценой. Ему понравилось смотреть на реку. Она останется. Быть может, сменит очертания берегов, поменяет цвет на какой-нибудь серый — от пепла. Но останется. И его пепел — или во что там он превратится — тоже смахнет в Дон и понесет к югу.
—Эй!
Уборщица стояла на набережной — там, куда и сам Малыгин незадолго до этого вышел через разбитую витрину.
Он повернулся, качнул головой — чего, мол.
—На сколько назначено-то?
—После полуночи вроде бы, — крикнул он в ответ. — До рассвета.
Она широко махнула рукой.
—Так еще ж уйма времени!
Малыгин согласно закивал.
—Хорошо, отоспалась. Мы ж больше не уснем, а?
Он снова кивнул и уставился на хмурый Дон.
—Иди сюда! Я сигару сухую нашла! Колокол умолк на пару секунд, будто запнулся — но тут же продолжил наотмашь вгонять в тишину металл.
—Нет! — отозвался Малыгин.
—Сюда тащи, здесь лучше.
Сергей Кошкин
ПРО КОНЕЦ СВЕТА И БЕЗ НАЗВАНИЯ
Было время, в преддверии двухтысячного года, мы с Л., слушая сопутствующие миллениуму глуповатые прогнозы техногенных катаклизмов, славно потешались над всей этой телевизионной ерундой. Мы хотели встретить Новый год как-то необычно, но не могли придумать, как. В конце концов, после долгих споров, 29-го декабря, мы вылетели в Ростов ночным рейсом, мы были пьяны и веселы, в самолете рядом с нами сидели пара-тройка кислолицых немцев, а в хвосте веселилась компания евреев-хасидов: хасиды пели песни на своем языке, перебивая друг друга, что-то рассказывали, громко смеялись...
Мы приземлились в ростовском аэропорту за полночь и, покинув самолет, который сразу куда-то уехал, долго стояли под снегом, затерявшись в темноте взлетного поля в ожидании автобуса, но автобуса все не было и не было. Хасиды, однако, продолжали веселиться— там, где только что был наш самолет, они водили хоровод и громко пели, немцам же, было видно, хотелось спать. Спустя полчаса пришел долгожданный желтый автобус, первыми в него прыгнули немцы, затем мы, а хасиды все продолжали танцевать и петь. И тут один из немцев не выдержал: он высунулся в дверь и начал что-то сердито лаять на своем языке — что-то, из чего мы разобрали лишь знакомое с детства «шнеллер». Хасиды, точно так же, как танцевали — хороводом побежали в автобус... А утром, посреди предпраздничной суеты, родилась мысль, что хорошо было бы встретить Новый год в горах, и так, чтобы люди были незнакомые, и места — такие, где мы никогда еще не были. Вечером тридцатого мы уже сидели в автобусе и ехали в сторону Кавказа, попутчики наши пили водку и пели песни, теперь уже по-русски. Преобладал шансон. Мы с Л. не спали уже вторую ночь и к утру, добравшись до гостиницы на окраине Нальчика, без водки ощущали себя совершенно пьяными и, добравшись до кровати, рухнули навзничь, но в соседних номерах продолжали веселиться и петь шансон стойкие соседи.
Поворочавшись бестолку, мы вышли прогуляться, за гостиницей мы обнаружили поле и тишину, здесь не было снега, гуляла корова и островами зеленела трава. Мы шли по полю, в тишине и свежести, легко, как, наверное, ходят ангелы по небу или две тысячи лет назад ходил Иисус по воде, но поле неожиданно закончилось пропастью, на дне которой, где-то в глубине, шумела река. Затем была экскурсия в город. Город оказался пыльным, запущенным. Экскурсовод, пожилая русская женщина, рассказывала нам, что когда-то здесь была больница, в которой больные лечились от разных болезней, просто дыша местным воздухом. Городские улицы были пусты. Редкие пары молодых кавказцев мужского пола, проходя мимо нас, смотрели недружелюбно и каркающе смеялись. В гостинице пели, дрались и снова пели соседи. Телевизор транслировал один-единственный канал, и этот канал был местный: студия — комната со стенами, обитыми зеленым сукном, массивный стол посредине, за столом—кавказский мужик с усами и с папахой на бритой голове, рядом—женщина в платке. Мужик (опять не по-русски) что-то долго и монотонно говорил, а женщина слушала, наклонив голову, и молча кивала. Наверное, мужик говорил что-то умное и правильное. Иногда мужик что-то говорил в сторону и хлопал в ладоши, откуда-то сбоку выходил второй кавказский мужик — совсем дед, тоже — бритый, усатый, в папахе, но еще и с баяном и табуреткой в руках. Дед садился на табурет недалеко от стола и начинал играть странную переливчивую мелодию, от которой хотелось немедленно выпить и крепко задуматься. Он играл минут десять, затем вставал и уходил. Вместе с баяном и табуреткой. Мужик, тот, что за столом, похлопав в ладоши, снова начинал говорить, а женщина слушала. И так — два, три, четыре часа...
К одиннадцати вечера в зал, где должен был состояться новогодний банкет, спустилось меньше половины наших давешних попутчиков, они были пьяны, но строги, а у одного из них под глазом был синяк. Все сели за стол, налили в стаканы водки и выпили. Закусили колбасой и политыми уксусом кусочками вареной свеклы. Еще раз налили, выпили. Еще раз закусили... В двенадцать ночи те, кто был еще жив, закричали «Ура!» и бросились на улицу—звонить по мобильным телефонам друзьям и родственникам. В телефонах девичьи голоса участливо сетовали на перегрузку связи и предлагали попробовать перезвонить позднее. Где-то внизу неровно светился город. Слышались выстрелы. Я подумал: как там, интересно, эти телевизионные мужики и женщина в платке? Наверное, все так же. Колесо вечности.
—Конец света, — сказала Л. без выражения. Как будто получилось совсем иначе, чем мы ожидали. Но оно так и получилось. Я улыбнулся.
Той ночью мне приснился сон. Мне снилось, что я, как герой голливудского блокбастера, лечу в ракете навстречу угрожающему Земле астероиду спасать мир. Я должен высадиться на астероид и взорвать ядерную бомбу. Астероид расколется на много мелких астероидов, и планета будет спасена. Я чувствовал себя сильным, решительным и ответственным. Ближе к рассветуяпонял, что астероид пролетел мимо меня или я — мимо астероида, без разницы. Я летел, а Земли уже не было. Я был жив, но мне некуда было возвращаться. Я проснулся, рядом, закутавшись с головою в одеяло, спала Л. По коридору ходила пожилая русская женщина и приглашала всех на экскурсию. За стеною храпели соседи. Мир был жив, и все в нем было по-прежнему хорошо, хоть и не так, как хотелось бы.
Конец нашего с Л. мира наступал несколько лет, наступал долго. Мы словно переживали болезнь, которую невозможно вылечить, и оставалось лишь ждать смерти, но каждая минута, каждый день ожидания успокаивал, давая надежду на выздоровление... Глупо. Конец света наступает в тот момент, когда начинают думать о смерти, и остальное — лишь ожидание ее. Люди навсегда расстаются в тот момент, когда впервые предполагают, что они расстанутся. А дальше — можно придумать тысячу причин, исследовать экваторы причинно-следственных связей, изучить каждый метр их в поисках первопричины — занозы, приведшей к гангрене, или, если хотите — того самого последнего дня, последнего мига, когда твой мир был еще жив. Кажется, что, изменив что-то в этом последнем дне, можно изменить все... но это пустое. Мы, как одинокие космонавты, всегда пролетающие мимо того, что убивает нас — напрасно сильны и уверены в себе. В какие-то моменты времени нам кажется: мы понимаем, что происходит, мы называем эти мгновения счастьем, ощущая кратковременную, невесомую остановку движения нашего мира к смерти, но колесо вечности вертится неумолимо, и получается, что вся наша жизнь, с самого детства, по сути — это ожидание, ожидание, ожидание, надеешься ли ты на что-то или уже нет, спишь ты или, проснувшись, думаешь: все по-прежнему, все еще хорошо, хоть и не так, как хотелось бы.
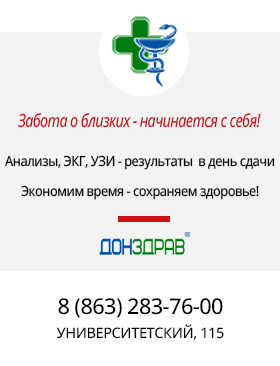

 Перейти в архив
Перейти в архив