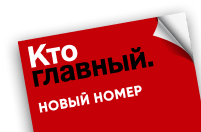
Иногда мне снится лошадка. Не жеребенок уже, но и не конь. Стригунок. И мы целыми днями пропадаем в лугах и над рекой, а на дворе лето...
— Строиться! — послышалась команда.— Живее! Живее!
— Есть распоряжение,— сказал старшина, когда через минуту мы стояли в строю,— есть распоряжение одному солдату нашей команды маленько уши потрепать...
Да, это относилось ко мне. Он и смотрел на меня... Это был мой день.
Выйти из строя! — цепко вглядываясь в меня, с удовольствием проговорил старшина.
Я вышел и стал к строю лицом.
— Нет, — сказали из строя,— на сухую, без подарка, не пойдет.
— Кто сказал «без подарка»? — удивился старшина.— Есть подарок. Все есть.
И, поставив нас по стойке смирно, он объявил мне отпуск в расположении части сроком на одни сутки.
— Можете быть свободны,— сказал он мне.— На обед, на ужин — в строй! И к отбою. Без опоздания! И можете мундир надеть.
Я взял из тумбочки книгу и вышел из казармы. На плацу вовсю шли тренажи. Я завернул за угол и увидел сержанта Машкина. Рядом с ним стояла лошадь. Машкин гладил ее ладонью по спине. Лошадь показалась мне смущенной.
— А это тебе от нас,— весело проговорил Машкин и похлопал лошадь по спине. Она переминалась с ноги на ногу, копыта проваливались в песок.
— Куда я с ней?
— А нам-то что? — беспечно сказал Машкин.— Подарок...
— Правда, только до вечера,—сказал у меня за спиной Дашевский.
— И от подарка некрасиво отказываться,— добавил Хацик.
— Вот так...— развел руками Машкин и посмотрел на ребят.— Отделение, строиться!— скомандовал сержант, и они ушли, посмеиваясь.
Была она какая-то нескладная, кроткая. Спина длинная, жесткая. Совсем непраздничная лошадка. Еще и смущалась вдобавок.
— Сейчас приедет мотовоз, привезет офицеров, на плацу построится часть, начнется развод на занятия и работы, заиграет оркестр, и все пройдут мимо трибуны торжественным маршем и разойдутся, и каждый займется своим делом. А мы? — спросил я ее. — Так вот и будем стоять, молчать и смущаться? Нет, надо что-то придумать. И первое, что мы сделаем,— уйдем отсюда подальше... Я бы попас тебя до вечера и мог бы даже в ночное пойти, но разве у нас трава? Все выжгло за лето дотла. Пожалуй, хлебом я тебя покормлю. Схожу к хлеборезу, выпрошу буханку «черняшки» и покормлю... А ребята... когда же они успели? Как догадались? Ведь надо было идти на хозяйственный двор, договариваться там с кем-то; нет, я и предположить-то этого не мог... Надо, чтобы не задержал патруль.
Конечно, можно объяснить, можно даже показать отпускную, а в ней строчку про день рождения, но что-то не хочется оправдываться и показывать эту строчку. Твой день — и живи как хочешь... Сесть бы в ракету нам сейчас, попросить, чтобы ее заправили, и полететь куда-нибудь, а о тебе скажут: «В космосе первая лошадь-космонавт». Мы бы с тобой полетали. Вдоволь. Потом легко нашли бы сверху хороший лужок, включили бы тормозные двигатели и приземлились. Ты бы пощипала траву, я бы полежал на спине, положив под голову руки.
Я вошел в столовую через дверь посудомойки и собрал со столов оставшийся после завтрака хлеб. Прикинул по весу — буханки не получилось, но одному человеку раз хорошо поесть — хватило бы. Я не знал, нравится ли ей с солью, и на всякий случай взял жменю. Когда я шел к ней, она смотрела в мою сторону. У нее были умные глаза. Они всматривались в меня так проникновенно, что, казалось, видели насквозь...
Каким я представлялся ей? Что думала она? Хлеб она ела с достоинством, не спеша. С солью ей нравилось.
— В детстве у меня был знакомый конюх дядя Вася, — сказал я ей. — Когда мы водили дружбу, я убегал из школы не в порт, как другие мальчишки, и не кататься на трамваях, я убегал к нему. Дядя Вася возил ящики, накрытые клеенкой корзины, кадушки. Его телега всегда была заставлена, но мое место оставалось неприкосновенным. Он давал мне вожжи, просил: «Ты, брат, легонько, она у нас грамотная...», закуривал короткую сигаретку в мундштуке, и мы ехали. Он мне много рассказывал о лошадях, говорил: «На моем веку их было о-го-го! И все разные...» И вот какие разные — об этом-то дяде Васе было особенно приятно вспоминать. Мы запросто ездили на красный свет, я в ужасе кричал: «КРАСНЫЙ!», а он усмехался беспечно: «Но, милая! Не сомневайся! Нехай они у нас наши права отберут, а мы им вдобавок и яблоков своих можем в фуражку накласть с верхом». Я еще некоторое время вздрагивал, когда мы нарушали, но скоро привык. «Одно, братишка, жалко,— вздыхал дядя Вася,— живут они мало. Ну посуди сам, что это за жизнь, если всего ее двадцать лет?!» Тогда я считал, что двадцать лет — это ужасно много, но спорить не хотел. А сегодня мне самому — двадцать. Выходит, прожита лошадиная жизнь? Если бы я на самом деле был лошадью, то сейчас был бы таким преклонным стариком, что еще полгода, и — долгожитель.
Лошадь слушала меня внимательно. Жаль, что сама ничего не говорила. Мы довольно далеко отошли от казарм. Прошлый день рождения был там, дома. Пришли мои друзья, девушки. А вечером мама сказала: «Я сейчас смотрела на вас и подумала: может, ради одного такого дня, чтоб был здесь мой взрослый сын и его друзья, чтоб были этот стол, и эти стены, и крыша над головой, чтоб легко можно было загадывать на завтрашний день, может, ради всего этого люди так долго терпели и отказывали себе во многом». И в тот же вечер, поздно, когда все разошлись, мы открыли окно, и она рассказала, как родила меня:
— Родился ты в школе. Война только-только из станицы ушла, и медпункт в школе был. Больницу немцы, отступая, подорвали. А школа — несколько огромных классов, разбитыми партами печь топили: инструмент кипятить. Тут и раненые солдаты, тут и женщины, тут и я тебя жду. Меня у стены положили, на веревку простыню повесили... И повезло нам. В ту смену самая опытная акушерка дежурила. Я ничего так не хотела, только чтоб в ее дежурство родить. Все вокруг худющие — кожа и кости, а она — ладная, крепко сбитая, такие на картинах снопы вяжут. Она и приняла тебя. А ты родился и молчишь. «Да как же так? — я себе места не нахожу.— Да что ж это такое? Вы же кричать должны. И чем громче, тем лучше! Но ты молчишь и синеешь...» Схватила она тебя за ноги, ты вниз головкой висишь, и давай ладонью по попке лупить. Рука огромная, а она — шлеп да шлеп. Я считала, она восемнадцать раз тебя ударила. И ты закричал. Слабенько, будто пленочка лопнула, а все же закричал! А до того так тихо было, казалось — я одна! А ты закричал, и солдатики заговорили, и бабы, а кто-то, слышу, плачет. Его успокаивают, но мне ничего не видно за простыней...
Мы спустились с холма в неширокую пустую ложбину. Я сел на песок и разулся. Можно было никуда не идти. Лошадь остановилась, не поворачивая головы. Я подложил под голову книгу и лег. Солнце еще не доставало сюда — песок был холодный и сырой. Стоял сентябрь, но небо оставалось по-прежнему летним — высоким и прозрачным. Огромный кусок синевы, подрагивая, висел надо мной. Мне нравилось здесь. Лошадь понимающе смотрела на меня. Я закрыл глаза. ...Вдруг послышалось короткое ржание. Я приподнялся, открыл глаза: солнце висело над головой, лошадь недалеко отошла и, подняв уши, вслушивалась. Ржание повторилось. И еще раз. Моя ответила. Я понял все.
Вдоль караульных вышек мы ушли на хоздвор. Среди невысоких деревянных построек несколько раз мелькнул пегий конь. Лошадь остановилась и с ожиданием посмотрела на меня.
— Ладно,— сказал я ей,— чего уж там... Иди.
Она улыбнулась мне на прощание.
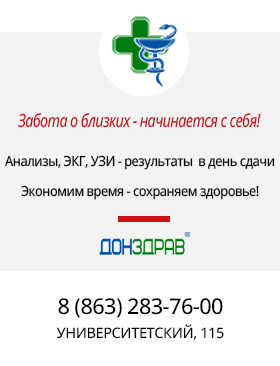

 Перейти в архив
Перейти в архив