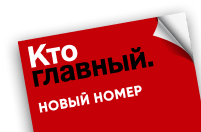
Лев Прыгунов, советский и российский актер театра и кино, художник, родился 23 апреля 1939 года. Дед Льва Георгиевича по матери был сельским священником на Урале. В 1919 году его чуть не расстреляли красные, но деда отбили жители деревни. После этого он занемог, а через неделю умер. Семья вынуждена была съехать из этих мест и поселиться на окраине Алма-Аты. Там и родился Лев Прыгунов. После окончания школы два года проучился на биологическом факультете Алма-Атинского педагогического института. В 1962 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Начал сниматься в кино еще на 3-м курсе. Первой его ролью стала роль матроса Николая Валежникова в фильме «Увольнение на берег». В 1964 году Лев Прыгунов снялся в советско-итальянском фильме Джузеппе де Сантиса в картине «Они шли на Восток». На счету Прыгунова около сотни картин, из них десять — американских. Лучшей своей ролью считает роль в фильме «Сердце Бонивура». С 1972 года профессионально пишет картины. Неоднократно устраивал собственные выставки.
Женат, имеет сына Романа.
Мое детство прошло в Алма-Ате. Я очень хорошо помню военное время. Что удивительно, период с 1947-го по 1950-й у меня совершенно выпал из памяти, а вот военное детство в памяти сохранилось...
Отец прошел всю войну, а домой вернулся в конце 1946 года. Год я мучился, бегал к началу нашей улицы и взглядом искал отца. У меня сердце сжималось, когда видел человека в офицерском мундире.
Когда мне было 10 лет, отец погиб. Он оставил громадную библиотеку с книгами по биологии и два ружья. Отец был орнитологом, он передал мне любовь к птицам. С 12 лет я брал ружье и шел в горы. Отец учил меня снимать шкуры с птиц и делать чучела. Потом я перестал стрелять в птиц. Я их просто ловил. В нашей маленькой комнатушке обитало много пернатых. Рядом с домом находилась 33-я школа, где я учился. Во время экзаменов учителя просили меня утихомирить моих птиц, и мне приходилось закрывать клетки одеялами...
В школе я лучше всех рисовал, поэтому мне поручили заниматься стенгазетой.
Я отлично помню, что в каждом номере стенгазеты я обязан был приклеить пять фотографий Сталина. Помню еще, что в школе учился мальчик, родителей которого расстреляли, и он во время урока плюнул в портрет Сталина. Об этом мгновенно узнал весь город, и у нас в течение месяца в каждом классе дежурил сотрудник НК ВД.
Вот так было.
В 1962 году в Москве было всего три места, где можно было ночью выпить кофе или коньяк, покурить или поболтать со старыми знакомыми. Это было кафе в холле гостиницы «Москва», обычно туда приходили из кафе «Националь», которое закрывалось в 12 ночи. «Москва» работала до двух ночи, затем была чайная в гостинице «Метрополь», но туда можно было попасть только с иностранцами и ни в коем случае не отходить от них ни наш шаг, иначе был риск угодить в лапы комсомольцев. Еще была барная стойка и полтора десятка столиков в холле гостиницы «Украина», где можно было сидеть до четырех утра. Вы можете не понять, почему я акцентирую на этом внимание — сейчас в любой день, в любое время суток открыты сотни заведений, куда вы можете пойти.
В 1963 году в Ленинграде я попал в известную, в то время, поэтическую богему. Это была компания из пяти творческих людей: Льва Лосева, Жени Рейна, Толи Наймана, Димы Бобышева и Иосифа Бродского. Иногда с ними пересекался замечательный поэт Володя Уфлянд. С этими ребятами познакомил меня уникальный, яркий человек с загадочной судьбой Сергей Чудаков (поэт, сутенер, снимал порнофильмы. — «Главный»). В 1973 году Бродский посвятил ему стихотворение — «На смерть друга». Как только он его написал, тут же на горизонте опять появился Сережа Чудаков... Это были очень умные, начитанные люди, знали толк в искусстве, хотя — пьяницы все, не без того. Потом компания распалась. Из-за женщин. Бобышев увел жену Бродского, Найман увел жену Рейна. Последний покинул нас, оставшись жить в Москве, Бобышев вынужден был уехать намного дальше, в Канаду — его все возненавидели за предательство по отношению к гениальному поэту.
Нас называли стилягами, пижонами, но стилягами мы не были. Стиляги появились в 1956–1957 годах, я тогда только школу окончил... У Бродского был свой стиль, он носил американские шмотки, но к стилягам это не имело никакого отношения. Таких называли «штатники». После американской выставки в конце 50-х в Москве, в Сокольниках, все пытались быть «штатниками». Я тоже старался хорошо одеваться.
Мне присылали джинсы из Америки, рубашки. В кафе «Националь» работал парень, который шил «американские» костюмы за 60 рублей. Его потом арестовали за это дело. Мне на костюм денег не хватало... Я не согласен, когда говорят, что противоположности притягиваются. На самом деле все иначе — подобное притягивается к подобному. С Бродским у нас сразу завязались близкие отношения, но не настолько, чтобы считаться друзьями. Таких, как я, он называл словом «кореш». Мы познакомились в 1965 году. Как раз по возвращении Бродского из Норенской (деревня, где Бродский находился в ссылке. — «Главный»). Я очень ждал этой встречи. На тот момент перечитал все его стихотворения, многие знал наизусть.
Из Норенской он сначала приехал в Москву, а затем в Ленинград. Наша компания договорилась с ним встретиться возле Дома книги, а потом мы все вместе отправились в ресторан «Нева». Накрыли стол. Деньги были только у меня и Леши Лифшица (настоящая фамилия Лосева. — «Главный»). В тот день Иосиф мне показался тихим, немного стеснительным человеком, говорил мало, в основном слушал. Он выделил меня, наверное, за открытость, за беззаботность. Я восхищался Бродским и не скрывал этого. Как ни странно, он хорошо ко мне относился, как к актеру, и говорил: «Левка должен играть Гамлета». Мы быстро сошлись, стали общаться. Бывая в Ленинграде, я ночевал у него, в его крошечной комнатке. Мы одновременно с ним учили два языка: немецкий и английский. Я приносил ему много книжек, в основном детективы на иностранных языках. Эти книги были в свободном доступе, ни у кого не было мысли запрещать подобную литературу, ведь иностранные языки тогда знали единицы. Я изучал язык с одной целью — чтобы читать те книжки, которые не издавались в Советском Союзе. За год я выучил английский язык так, что мог свободно разговаривать и читать.
Первый сборник стихов на английском языке, который Бродский издал в 1972 году, уже в эмиграции, он отправил только мне. Знал, что я оценю. Я был очень дружен с его отцом — Александром Ивановичем, и после того, как Иосиф эмигрировал в 1972 году, заходил к его родителям в гости.
Снова мы увиделись только в 1989 году. Я часто ему писал, но он от меня получил всего два письма. Я подозревал, что в те годы мой телефон прослушивался. Я ведь тоже был у советской власти не на хорошем счету. Я был «невыездной» и полагал, что с очень большой вероятностью никогда не увижу ни Париж, ни Америку. Мне нечего было терять, потому я плевал на всех и старался быть свободным человеком. Но неожиданно случилась перестройка, и уже через три года я смог выехать в Штаты.
Я гостил у Иосифа в университетском городке. Замечательные были дни... Я тогда увидел его и понял, что Бродский не изменился. Он оставался собой всегда — и при лагерных советских условиях, и при странной и чужой американской жизни. На него ничто не влияло. Он был умный, я бы даже сказал, мудрый человек. Он сам по себе был настолько мощный магнит с настолько богатым внутренним миром... Он был человеком, который никогда не врал — это был один из его принципов. И любил он сильно, отчаянно. Опыта в таких делах у него не было, он любил и страдал. Я имею ввиду его первую любовь — Марину Басманову, дочь художника Басманова. И подозреваю, что Марина была его первой и последней любовью — на всю жизнь. Он ее просто обожал и боготворил. И обошел, по-моему, всех поэтов по количеству посвящений своих стихов ей одной. «М.Б.» — так он подписывал посвященные ей стихи.
Смерть Иосифа меня настолько потрясла, мне казалось, такие люди не умирают...
Я часто сравнивал и продолжаю сравнивать Советский Союз с зоной. Мне довелось сняться в фильме, съемки которого проходили на территории зоны строжайшего режима, в городе Валдае. Недалеко от зоны была гостиница, нас туда поселили. К слову сказать, она ничем не отличалась от казармы. Мы уходили на съемки в зону в восемь утра, а возвращались в гостиницу в девять вечера. И у нас, по возвращении в гостиницу, возникало стойкое ощущение, что мы не уходили с зоны... Зона — это Советская страна в миниатюре. В зоне были свои стукачи, и в СССР они были. Либо коммунисты, ведь коммунист, он на то и коммунист, обязан настучать. Посылка с воли равнозначна посылке из-за границы для советского человека. Мне присылали джинсы, зеленый чай для занятий по ушу, частью которых было чаепитие. Еще я получал книги по востоковедению, разные китайские штуки, по которым можно выучить иероглифы. В СССР ничего не было. Вообще ничего. Но я благодарен советской власти за такую молодость. Она сделала из меня человека, она и мои друзья. Дала мне понять, в конце концов, что такое свобода.
Интервью записано в рамках «Литературного салона » со Львом Прыгуновым в ресторане Pinot Noir.

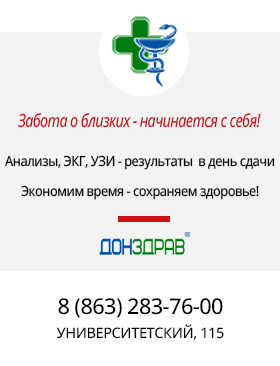

 Перейти в архив
Перейти в архив