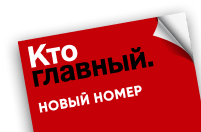
— В юные годы вы жили в Ростове. Какой была жизнь в городе в оттепельную эпоху? Чем отличалась от нынешней?
— Тем, что все, кого я знал, охотились за книгами — покупали их на Буденновском и Ворошиловском, выменивали у спекулянтов, передавали из рук в руки тамиздат и самиздат, чаще его фото- и ксерокопии, машинописные распечатки. Еще — девушкам на свиданиях надо было непременно читать стихи, лучше запрещенных и опальных поэтов. То, что «своя» это девушка или не «своя», так, собственно, и проверялось — может ли она вслед за тобой продолжить строфу из Пастернака или обмирает над Асадовым. Теперь и первая и вторая норма, сколько я понимаю, ушли, что и означает крах литературоцентризма, для меня болезненный.
— Я так понимаю, вопрос о выборе дальнейшего пути перед вами тогда не стоял.
— Давид Самойлов после разговора со мною уже в поздние 70-е годы записал в дневник, что Чупринин, мол, думает только о литературе, а всем прочим если и интересуется, то слегка. Я и в ранней молодости был таким, так что альтернативы филфаку не было. Здесь уж для чего родился… Что до Ростовского госуниверситета, куда я поступил в 66-м, то в нем было точно не скучно. Гремел студенческий театр «Мост», на мехмат мы бегали, чтобы почитать их вольнодумную стенгазету «Сигма», у нас ежегодно проходили совсем не пустые студенческие научные конференции. Преподаватели были, конечно, разные. Кому-то я по гроб жизни обязан как Георгию Сергеевичу Петелину, заведовавшему кафедрой зарубежной литературы и согласившемуся руководить моей дипломной работой — «Жан-Жак Руссо и Лев Толстой как критики культуры» она называлась. Или вот Леонид Владимирович Усенко — он мало того что читал у нас важнейший для меня курс истории русской литературы рубежа веков, так еще и брал к себе на практику в журнал «Дон», где вел отдел критики. Да и про других мне найдется что доброе сказать, даже про самых вроде бы ортодоксальных. Вот, например, Ольга Васильевна Астафьева. Она была секретарем факультетского партбюро, рассказывала нам без всяких модных «измов» о Пушкине и вообще о первой половине XIX столетия, но курсовые мне снисходительно разрешала писать и об акмеизме, и о Гумилеве, которого я тогда по молодости боготворил. Да, и еще – без проблем выдавала разрешения на походы в спецхран для чтения всевозможной крамолы. И там, в подвале библиотеки на Пушкинской, я проводил едва ли не самые сладкие свои часы, толстые тетради с конспектами и выписками до сих пор частично сохранились.
— А еще, говорят, вы вели свою литстудию в университете и издавали студенческий журнал...
— Начну с другого. Каждый сентябрь нас отправляли, как это называлось, «на картошку». Обычно же убирать урожай винограда, и там чаще всего завязывались первые романы. Но я не о романах, а о том, что уже «на картошке» во время долгих полуночных разговоров выяснилось, что, во-первых, едва ли не все (мальчики, во всяком случае) пишут стихи и что нам, во-вторых, нужно дело, какое объединяло бы наши литературные интересы и наши в эту сторону поползновения. Так мы придумали свой машинописный факультетский журнал «Одуванчик», назвав его прозвищем, которое дали своему куратору добрейшему Александру Ивановичу Станько. И целых три номера вышло – обложка рисованная карандашами, а тираж первых двух номеров – четыре экземпляра (совсем как в песне Галича – «”Эрика” берет четыре копии»), а третьего – целых десять экземпляров, и один мы гордо отнесли на вечное хранение в университетскую библиотеку. Из «Одуванчика» вырос наш главный поэт – Алексей Прийма, ныне, к несчастью, уже покойный. И оттуда же выдержавшая 50-летнее испытание моя дружба с Олегом, ныне, конечно, Олегом Алексеевичем, Лукьянченко, ростовским писателем, а в ту пору моим однокурсником и членом редколлегии «Одуванчика». Я же был избран самым главным редактором, поэтому, наверное, ко мне и обратились, когда факультетское начальство решило оживить работу литературной студии. Ею попеременно руководили наши профессора Яков Романович Симкин и Николай Иванович Глушков, но руководили формально, так что вел эти встречи обычно, действительно, я. Прозаиков среди студентов было не густо, поэтому читали стихи по кругу, их же и обсуждали, выступали с собственными лекциями, организовывали дискуссии: например, о том, актуален ли сегодня Маяковский, и решили, что нет, не актуален. А вершиной всего стал вечер памяти Пастернака, привлекший внимание не только студентов и преподавателей, но и компетентных органов. Во всяком случае, на факультетском партбюро прорабатывали нас сильно, и предполагавшуюся рекомендацию в аспирантуру я не получил, а тогда без нее к экзаменам не допускали, поэтому пришлось уехать по распределению в тацинскую районную газету «Свет Октября».
— В 1974 году поэт Татьяна Журавлева начала вести неофициальную поэтическую студию в здании РГУ на Горького. В какой-нибудь пустующей аудитории собирались читать свои стихи Александр Брунько, Георгий Булатов, Гарик Бедовой, Игорь Бондаревский, Александр Иванников и другие поэты. Были ли вы знакомы с кем-нибудь из этого круга? Слышали ли про «Заозерную школу»?
— Увы. Я закончил учебу в 1971-м и их уже не застал. Ну, кроме Георгия Булатова, учившегося на два курса моложе меня. А за «Заозерной школой» следил уже издали, из Москвы.
— Читал, что на ваше становление повлиял поэт Леонид Григорьян, преподававший тогда латынь в ростовском мединстистуте. Как вы с ним познакомились?
— Тут тоже нужна преамбула. В моей семье книжек в общем-то не было, кроме тех, что я сам покупал школьником, и руководить моим чтением было некому. Рубежным стало поступление в университет, когда я, готовясь к вступительным экзаменам, взял в районной библиотеке вузовскую хрестоматию по русской литературе начала XX века и увидел там имена, о которых я раньше только звон слышал: Андрей Белый, Мандельштам, Ходасевич, Кузмин, Крученых… И Гумилев! Я, что называется, поплыл и уже в конце первого курса сделал доклад на студенческой конференции о пушкинских традициях в творчестве Гумилева. Щенячий, конечно, совсем, но в моей жизни первый. И вот курю я в коридоре после доклада, и меня подзывает к себе Сергей Федорович Ширяев, латинист, в моей группе не преподававший и известный мне только по легендам. «Не ту тему вы выбрали», — говорит он мне испытующе. «А какую же надо было?» — ершусь я. «Вот Фурманов, например, и для диплома будет хорош». «Фурманов? —отвечаю я. — Ну уж нет», — и делаю шаг в сторону. А он мне: «Что же, если нет, то позвоните моему другу вот по этому номеру», — и заранее заготовленную бумажку с номером мне протягивает. И я позвонил. И я пришел на улицу Горького в тот дом, где сейчас мемориальная доска, с тем, чтобы приходить туда все годы, пока я жил в Ростове, чтобы писать по этому адресу уже позже, пока жив был Леонид Григорьевич. Может, и слишком пафосно это прозвучит, но именно Григорьяна я и спустя десятилетия могу назвать своим главным учителем.
— Вернемся к сегодняшним дням. Недавно вы составили и издали фундаментальный труд «Оттепель: события. Март 1953 — август 1968». А еще 30 лет назад вы выпустили трехтомную антологию оттепельной прозы и поэзии. Откуда такой стойкий интерес к этой эпохе?
— У Стефана Цвейга есть рассуждение о «звездных часах человечества», и для России, по моему разумению, в прошлом столетии такими стали Серебряный век и перестройка конца 80-90-х. А посредине — в аккурат Оттепель, от смерти тирана в марте 1953-го до подавления «пражской весны» в августе 1968-го. Я ее младший современник, ее последыш, и всегда помню, как стремительно менялось тогда все и как интересно было тогда жить. В этом смысле мой неотступный интерес к этой эпохе — дань памяти о моей собственной молодости.
— По какому принципу составлена новая книга? Доступна ли она массовому читателю?
— Я сказал о стремительности тогдашних перемен. Вот и моя книга, я надеюсь, построена на чередовании этих перемен, на конфликте между потеплениями и заморозками, надеждами и разочарованиями. Это 1192 страницы убористого текста, где почти нет моих слов. Только хроника: то есть само событие плюс (если есть) комментарии участников или свидетелей этого события, взятые из документов, писем, дневников, воспоминаний. Кому она предназначена? Ну, в первую очередь, как я думал, конечно, специалистам (филологам, историкам, культурологам), и место ей, прежде всего, в библиотеках. Но, если судить по откликам, людей, которые воспринимают Оттепель так, как я, то есть как один из «звездных часов» российской истории, больше, чем только специалистов. И в кругу читателей к моему радостному изумлению есть совсем молодые люди. Видимо, как я думаю, тоже тоскующие по переменам, по обновлению, по, простите мне эти нынешние слова, «движухе» и драйву, которых нам сейчас так остро недостает.
— Как часто бываете в родном Ростове? Не испытываете ли нечто вроде ностальгии?
— Я, поступив в аспирантуру Института мировой литературы, переехал в Москву в 1973 году, то есть почти полвека назад. Могло бы уже, кажется, отболеть, но я по натуре человек привязчивый и совсем от Ростова не освободился, да и не хочу освобождаться. Поэтому на первых порах приезжал очень часто, по несколько раз в год, еще и потому, конечно, что живы были родители в Тацинке и брат в Зернограде. Сейчас уже пореже, но раз в год-в полтора стараюсь наведываться. Обхожу университетские адреса — на Садовой, бывшей Энгельса, где началась учеба, на Горького, где она продолжилась. И студенческие общежития — на Турмалиновском, на Западном, — где я жил пять лет. И адреса друзей, тех, с кем мне и сейчас хорошо. Случалось и выступать — в областной библиотеке, в университете у прекрасно работающего Володи Козлова. Назвать свое чувство ностальгическим я, пожалуй, не решусь, но то, что понимаю Ростов, как одну из своих родин, это точно.
Читайте также: Леонид Григорьян вспоминает о ростовских поэтах-шестидесятниках.